На смерть Горбовского
Он не умер, пока я был в Индии. Он перестал, как дождь из собственного стихотворения
… Слиться с речкой безымянной,
целовать людей… Устать.
А затем в рассвет туманный
поредеть и перестать.
Он перестал в больничной палате накануне дня выписки. В окне молочно млел туманный питерский рассвет.
По возвращении один общий знакомый сказал: «Горбовский — поэт, конечно, гениальный, но человек он был дурной».
Господи, как я мечтаю, чтобы обо мне ползали такие посмертные слухи! Чем черней — трем лучше.
Ибо — сакраментальный вопрос — а кто не дурной? Может быть, убитый любимой женщиной в пьяной драке Рубцов? Может быть, Есенин, — «Чёрный человек»? Может быть, Бунин, жадюга со злобным нравом (почитайте Катаева). Да что Катаев — сам всё о себе сказал в «Деревне», «Окаянных днях», «Тёмных аллеях». Может быть, Ахматова, ненавидимая собственным сыном? Может быть, Гоголь, ворочавшийся в гробу? Может быть, Лермонтов, убитый любимым другом и брошенный двумя друзьями-секундантами умирать в одиночестве четыре часа на горе Машук под проливным дождём? Испугались, конечно, ответственности, если это можно считать оправданием. Если б любили или хотя бы уважали — не бросили бы. Может быть, Пушкин, к которому большинство знавших его людей не поехали прощаться, а поехали к Дантесу поздравлять «блестящего молодого человека» «со столь счастливым исходом дуэли»? Общее мнение света выразил прекрасный человек, рыцарь без страха и упрёка, душа общества, щедрый и незаносчивый (за Пушкиным бежал по улице, чтобы поздороваться) — великий князь Михаил Павлович: «Поэт он, конечно, хороший, но человек он был дурной». Может быть, Некрасов, о котором по Петербургу ползали грязные слухи, как о «тайно порочном человеке»? Может быть, Достоевский — «истинно несчастный и дурной человек», согласно характеристике Толстого. Может быть, Толстой, накрывший стол для товарищей по полку в Севастополе по случаю именин и напившийся в одиночестве. потому что ни один офицер не пришёл?
Общество таково, что человек, живущий «с ужасом ко лжи», как Пушкин, Лермонтов, Горбовский не может не слыть дурным. Но это ведь и есть главный маркерный признак поэта, а не способность писать. Качественный человек может нравиться одним, не нравиться другим. Может быть ненавидим и презираем всеми. Нравиться всем качественный человек не может. Горбовский был высшего качества.
…Взял самый большой, 500-страничный, сборник Его стихов с надписью «Родимушке Тенушке от уходящего Глебушки» с практической (первый приступ горя пережил у моря, — стих, твою мать) целью: какие строчки взять для цитат, — и оказалось, что выбирать не приходится, — Все.
У каждого поэта есть сильные стороны. Кто силён рифмой (Маяковский), кто — аллитерацией (Фет), кто мощью образов (Заболоцкий), кто лирикой (Кушнер)… Горбовский — всем. Вот, например, из стихотворения «Юность»:
…Кулаки бодали дали,
кулаки терзали близи.
На гвозде висевший Сталин
отвернулся в укоризне…
Аллитерация — на зависть Фету, рифма — Маяковскому.
…Пили водку, пили смеси,
Пили, чтоб увидеть дно!
Голой жопой тёрся месяц
О немытое окно.
Такой вот образ, — хоть смейся, хоть плачь от правды этой родной-народной. Даже Маяковский с его «пил я водку, пил я виски» начинает выглядеть гламурно, как виски на фоне гремучих смесей типа убойных коктейлей Венечки Ерофеева: выпившему можно плевать в глаза с двух шагов, он не заметит. Луна в немытое окно заглянет жопой.
Кто сказал, что «в одну упряжку впрячь неможно коня и трепетную лань»? Горбовский впряг. Возможно, это и есть отличительная черта его поэзии — немыслимый диапазон лирики и крови.
Две рябины. Жизнь свирепа.
Ничего себе — заявочка сходу! Перекличка такая с Есениным, типа, — короче, без раскачки.
Слова — как дождь. Слова — как свёрла.
Слова — невнятная труха.
Твои слова — берут за горло,
мои — берут за потроха!
И, в то же время (другое стихотворение):
Я иду по уснувшей Неве.
В голове у меня — чистота.
Намекает на близкий рассвет
На Исаакии вспышка креста.
Какой лирический образ! Как мог бы развернуть его другой хороший поэт, например, Кушнер, — в той же лирической тональности. А от строк Горбовского — мурашки по коже:
…Но чернее, чем всё, — полынья.
Я её огибаю… пока.
В ней пульсирует кровью струя.
Словно взрезана бритвой рука.
Душа человеческая: светящийся крест и бьющаяся подо льдом чёрная вода, как кровь во взрезанной вене под кожей. Выход — в творчестве.
…Я иду по прекрасной Неве.
Рассветает в моей голове.
Одеваются мысли в слова.
И меня понимает Нева.
Он был — первобытный. Его понимали реки, по-матерински скармливающие своим обитателям утонувших в ужасе людей, и леса и поля, где нежные ромашки-лютики лелеют в себе яд, потому что знают, что такое жизнь.
Горбовский знал жизнь, как немногие (ещё бы не знать при такой биографии, когда, будучи мальчишкой отправлен к бабушке в деревню, оказался один-одинёшенек в оккупации, а, возвратившись в Ленинград после войны, нашёл в своей квартире чужих людей, — ни отца, ни матери, и дальше — понеслось — избывать сиротскую судьбу по окраинам вплоть до Сахалина), но яду в нём не было. Ни о ком плохо не говорил, говорил «я с ним расстался» — и всё. Наверное, тем люди отличаются от растений и животных. В них, чем труднее жизнь, тем больше яду и злобы; в человеке, чем труднее жизнь, тем этого меньше.
Приверженность живому и обострённое восприятие того, что есть жизнь, а что мертво, — главная черта его характера, выражаемая повсюду как в позитиве, так и в негативе. «Я люблю не абстрактного Бога, а иконы намоленный лик» звучит манифестом, подтверждающим обыденность.
Дождик соткан из мгновений,
в сумме — годы и века.
…Из подъезда вышел гений
За бутылочкой пивка.
Он выходил, я Его сопровождал. Магазин был наискосок через двор в Его доме на Кузнецовской. Мы не сплетничали за знакомых и за власть. Мы читали стихи или молчали. Дорого бы я отдал сейчас за это молчание. Когда я читал что-то проходное, Он откидывался на спинку дивана и делал рукой отталкивающие жесты. И — мгновенно преображался, слыша живое слово: спина распрямлялась, глаза блестели, рука начинала отбивать такт. Потом — опять откидывался и толкал воздух от себя. Интересно было за ним наблюдать. На слова скуп был, как на лишнее между людьми. Крайнее отношение к слову: поэзия — всё, проза — ничто. Но это не касалось того, что пошленько называется «прозой жизни», потому что прозы жизни нет, всё, что жизнь — это поэзия. Когда в Большом зале Александро-Невской Лавры отмечали его очередной юбилей, он сидел в кресле, полузакрыв глаза, будто происходящее его не касается. Выходили ораторы, говорили во славу, все умельцы, известные мастера слова. Горбовский как бы не участвовал в собственном юбилее. Вышел Битов и внёс живую струю. Я даже думаю, что это была с его стороны провокация. Он сказал как бы между прочим:
Когда в Большом зале Александро-Невской Лавры отмечали его очередной юбилей, он сидел в кресле, полузакрыв глаза, будто происходящее его не касается. Выходили ораторы, говорили во славу, все умельцы, известные мастера слова. Горбовский как бы не участвовал в собственном юбилее. Вышел Битов и внёс живую струю. Я даже думаю, что это была с его стороны провокация. Он сказал как бы между прочим:
— Помню, пересеклись мы с Глебом на углу Невского и Садовой, он одолжил у меня три рубля…И, между прочим, не отдал…
Горбовский мгновенно встрепенулся:
— Не три, а два восемьдесят! И, между прочим, отдал!
В скуку торжества ворвалась жизнь тридцатилетней давности, началась эмоциональная разборка, объявили перерыв. Один гений, наклонившись над сидящим другим, доказывал ему, что между трёшкой и два восемьдесят, в сущности, никакой разницы нет, но так ничего и не доказал, ибо правда дороже. Захотелось повыть на Луну, что я и сделал ментально, выйдя на улицу с цыгаркой. Смех и слёзы от него. Это — Горбовский.
Живя «с ужасом ко лжи» (строка из его стихотворения), Горбовский не писал духоподъёмных стихов о великих стройках. Не нам судить, хорошо это или плохо. Наверное, они были нужны тогда стране. Однако, он знал изнанку: ни одна стройка не обошлась без рабского труда зеков, среди которых был и его отец, рано репрессированный, поздно реабилитированный, причём, вчистую, настолько, что был допущен к преподаванию в сельской школе в провинции. Сколько их написали московские поэты, — Евтушенко, Вознесенский, Рождественский! Если не о стройках, то на другие темы накропали духоподъёмных «нужников», атеистических, например. Ленинградские — Горбовский, Бродский, Кушнер, Рейн, — не писали ни «нужников», ни «паровозиков» для проезда через редакции. Возможно, сказывалось присутствие Ахматовой в их актуальном четверге. Скромное чаепитие у Ахматовой эти люди ставили выше публикации в журнале «Юность» огромным тиражом и выхода сборника. Не представляю, как можно было бы приехать к Ахматовой на чай, опубликовав «Братскую ГЭС», хотя и хороша местами духоподъёмная поэма Евтушенко. Разные были шестидесятники. Одни звучали на всю страну, другие проходили «вторым планом», а сейчас видно: они-то и есть гении. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, — поэты справные, но великого, но гения, среди них нет.
Его любимое стихотворение, которое Он читал чаще других, было оттуда, — из 60-х. Но насколько оно в стороне от того, что принято называть «духовным подъёмом оттепели»!
Боюсь скуки, боюсь скуки!
Я от скуки могу убить.
Я от скуки податливей суки:
бомбу в руки — стану бомбить.
Лом попался — рельсу выбью,
Поезд с мясом сброшу с моста.
Я от скуки кровь твою выпью,
Девочка, розовая красота.
Скука, скука… Съем человека.
Перережу в квартире свет.
Я — сынок двадцатого века.
Я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слёз.
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа. Скука — наркоз.
…Сплю. Садятся мухи. Жалят.
Скучно так, что — слышно! Как пение.
Расстреляйте меня, пожалуйста!
Это я прошу — поколение.
Стихотворение 1959 года, когда — подъём интеллигенции, всеобщее ожидание чего-то лучшего, морковка Коммунизма выдраена и подвешена на гвоздик календаря «1980». Многие ли, как Горбовский, чувствовали, что уже пришло то, что поколение сгубит и морковку сгноит?
В Смутное время, наступившее после выноса овоща с засохшим хвостиком на свалку истории, подсудимыми для многих, включая былых «духоподъёмников», стали Сталин, идеология, партия, на которых спихивали все грехи. Умеют же люди отделять себя от всего плохого во времени и припарковываться ко всему хорошему в поствремени. Горбовский не переобувался.
Прекрасные лица, как дивный мираж,
Впитала земля — не вернёшь.
И пыточный грех — человеческий, наш, —
на дьявола не спихнёшь…
Переобуваться приходится, когда меняешь пути.
Он уезжает из России.
Глаза — как два мохнатых рта…
Простите, но обидно мне до боли. Когда в США скончался переобувшийся Евтушенко, какой поднялся шум! Горбовский — будто заурядный дождик перестал, «наверху» не заметили. А ведь величины в поэзии несравнимые. У Евтушенко едва ли наберётся десяток таких стихов, каких у Горбовского — сотни.
Сторона моя родимая,
что молчишь, едва жива?
Вот избушка нелюдимая
из ушей растёт трава.
…Одичавшая, отцветшая,
потерявшая красу,
как старуха сумасшедшая,
бродит яблоня в лесу.
Он был дождь и перестал, как дождь. Велик ли дождь? Кажется, что нет — в своей повседневности. Но без него трава не растёт. Поэт — это дождь для народа, без которого народ не растёт.
28 марта 2019
Темы
Типы публикаций
Новости
Новая книга
27.06.2024. Вышел 5 том «Историко-Этимологического словаря русского языка». Приобрести книгу можно в «Озоне», а также непосредственно в издательстве МЕРА. Контакты прежние, см. ниже.
22.03.2024 В литературном журнале «Сибирские огни» (№3 — март 2024) опубликована статья Виктора Тена «Молчать нельзя критиковать» с критикой Этимологического словаря Макса Фасмера и разоблачением самого Фасмера
26.10.2023 В литературном журнале «Сибирские огни» (№ 10 — октябрь 2023) опубликована рецензия на «Историко-этимологический словарь» Виктора Тена
28.06.2023. В №7 журнала «Московский журнал. История государства Российского» опубликована статья В. Тена о новациях Петра I. Ознакомиться можно на сайте журнала.
28.06.2023. Новая повесть Виктора Тена «Павлин» опубликована в №6 литературного журнала «Сибирские огни» за 2023г. Ознакомиться можно на сайте журнала.
Новая книга
28.06.2023. В издательстве МЕРА вышел очередной 4-й том «Историко-этимологического словаря» Виктора Тена. Приобрести книгу можно в «Озоне», а также непосредственно в издательстве. Контакты прежние.
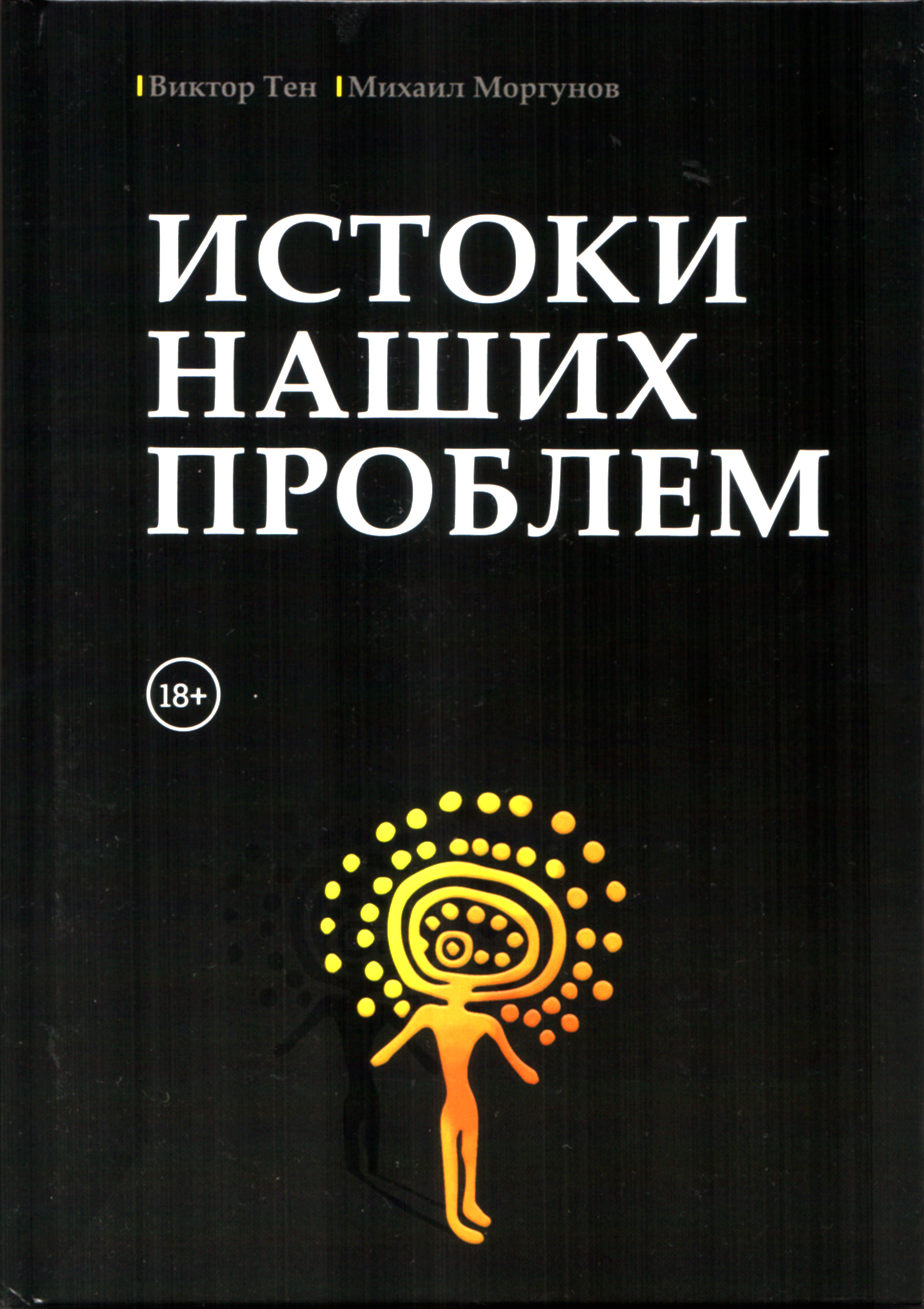
Новая книга
В издательстве Делибри (Москва) вышла книга Истоки наших проблем. Авторы Виктор Тен, Михаил Моргунов. Освещаются проблемы человечества от пресапиенсов до наших дней с точки зрения инверсионной теории антропогенеза В.Тена, предлагаются решения. По вопросам приобретения обращаться: info@delibri.ru. Сайт издательства letmeprint.me. Книга должна быть также в книжных интернет-магазинах.
Новая книга
Издательство МЕРА получило из типографии 3-й том Историко-этимологического словаря В.Тена. Книгу можно заказать по почте vvten@mail.ru, в издательстве МЕРА по почте vipspb78@yandex.ru., тел. 8 911 9794436
Новая книга
В издательстве МЕРА в январе 2021 вышел 2-й том Историко-этимологического словаря В. Тена. Книгу можно заказать по почте vvten@mail.ru, в издательстве МЕРА по почте vipspb78@yandex.ru., тел. 8 911 9794436
В журнале Свободная мысль №6, 2020 опубликована статья В.В. Тен «Проблема начала сознания решена? Новые МРТ-исследования в контексте психогенеза»
В журнале «Свободная мысль» №3, 2020 опубликована очередная статья В. Тена, посвящённая разоблачению фальсификаций древней истории «Кто изобрёл самую востребованную деревянную тару»
03 июня 2020 В издательстве МЕРА вышла новая книга В.В. Тен «Историко-этимологический словарь русского языка«, т.1. Книгу можно заказать по почте vvten@mail.ru, в издательстве МЕРА по почте vipspb78@yandex.ru., тел. 8 911 9794436

28.03.2020 В литературном журнале «Сибирские огни» опубликован рассказ В. Тена «Пушкин в Одессе». Желающие почитать могут найти его на сайте журнала. Номер 3, 2020
21.10.2019 В Англии вышла книга с изложением Инверсионной теории антропогенеза «Люди-амфибии. Инверсионная теория антропогенеза» (на английском языке)

21.05.2019 В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Виктора Тена Человек безумный. На грани сознания
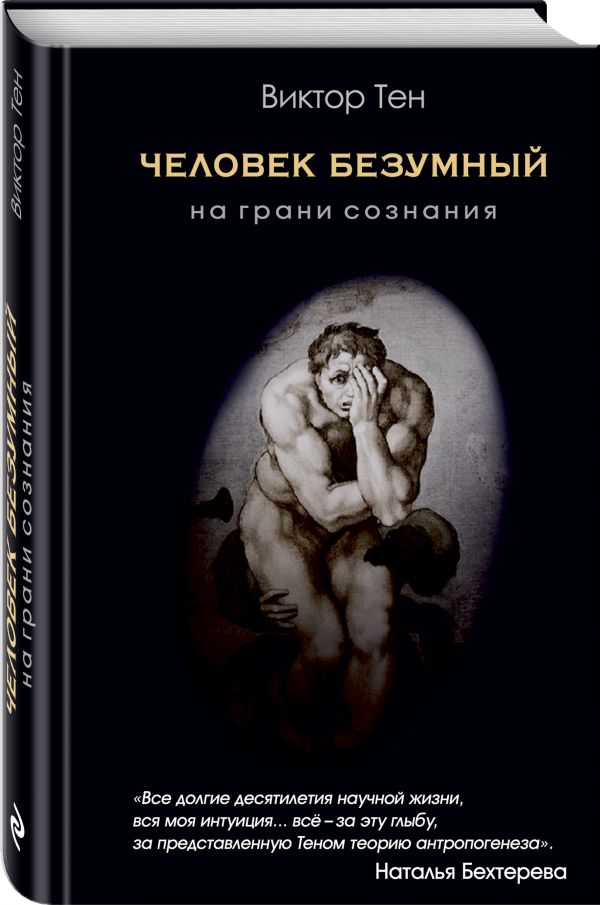
Приобрести книгу можно в официальном интернет магазине издательства.
12.03.2019 В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Виктора Тена Человек изначальный. Из пены морской.
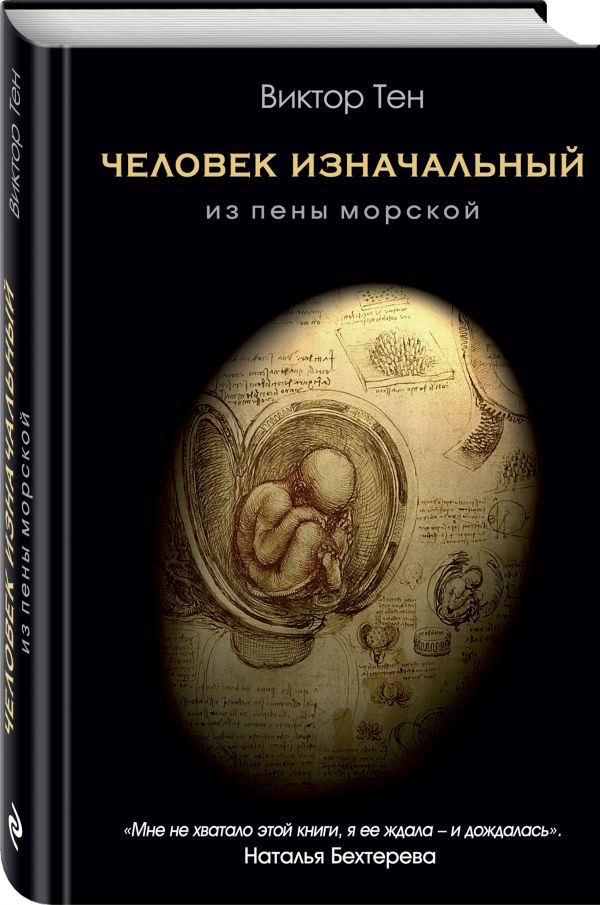
Приобрести книгу можно в официальном интернет магазине издательства.-
Свежие записи
- Предисловие к т.5 Историко-этимологического словаря
- Введение к 5 т. Историко-этимологического словаря
- Кант по гамбургскому счёту
- Предисловие профессора А.Валицкой к т. IV «Историко-этимологического словаря» В.Тена
- Введение в т.IV «Историко-этимологического словаря»
- Пётр I – возможный автор важных неологизмов
- Аутизм и палеопсихика
- Введение к тому 3 Историко-этимологического словаря русского языка
- Введение к тому 2 Историко-этимологического словаря русского языка
- Что такое дублёнка?
- Копытные без копыт и учёные без мозгов
- Ю.М. Бородай о происхождении сознания: истоки, достоинства, недостатки концепции
-

Хорошо написали!
Я сам просто в восторге от стихов Горбовского. Хотя узнал-то о его существовании, к своему стыду, лишь когда интернет наполнился некрологами.
Приятно сознавать, что нас с Вами объединяет не только акватическая теория, но и понимание, действительно, великолепной поэзии.