(опубликовано Международный журнал исследований культуры № 2(15) 2014: Антропологический поворот)
Генезис мифа является тайной до сих пор. Эвгемерическое толкование(героями мифов являются древние вожди) признано ошибочным еще в XIX в. «Сакральная мифология» 19в. тоже не дала ответа. Но через это направление в науку о мифе вошло «коллективное бессознательное» (сакральное всегда есть коллективное бессознательное до появления теологии). После Юнга ни у кого нет сомнений, что в мифе выраже но коллективное бессознательное. Но как понимать архетип применительно к мифу? Понятием «архетип» в настоящее время оперируют слишком широко. И оно всегда идет рядом со словом «миф». В мире литературы, искусства, философии мало мифологов, но много «мифистов». Архетип и «мифическое начало» стали синонимами. Это начало ищут (и всегда находят) в сказках и даже реалистических произведениях. С ним связывают позитивные коннотации. Но при этом забывают, что архетип — это след психического заболевания. Это комплекс.
Архетипы — такие же следы болезни, как индивидуальные комплексы. Отличие в том, что это родовой комплекс. Такое понимание позволяет смотреть на миф, как на пикриз. Это объясняет алогизмы мифов и безумства его героев. Мифы рождаются на стадии родовой шизофрении, которая является этапом филогенеза психики. Автор убежден, что пралогическое, партиципированное мышление (Леви-Брюль, Кречмер, Поршнев и др.) означает филогенетическую шизофрению. Только в таком контексте мы правильно поймем архетип. Этот подход ставит резкую границу между мифом и сказкой. Традиционное представление о генезисе: «реальность-миф-сказка» является ошибочным. Это недопустимое упрощение. Миф не вышел из реальности, он ирреален. Сказка не выходит из мифа. Она — порождение логического, каузального мышления. Миф ничему не учит, сказка всегда учит. Если мифы — это эпикризы заболевания, то сказки — установочные файлы каузального мышления.
Выражение «сказочная реальность» представляет собой оксюморон. Однако на страницах книг мы часто сталкиваемся с выражением «мифологическая реальность». В то же время, в живом общении выражение «это миф» активно употребляется для обозначения небывшего и небывалого. Задумаемся: в какой степени мифологические «реалии» более реальны, чем сказочные? Сказок, даже волшебных, сюжеты которых не были подсказаны жизнью, нет. В случае с мифом, как и в случае со сказкой, надо говорить о некой трансцендентной реальности. Причем, надо полагать, «реальность» сказки хронологически «ближе» к нам, чем «реальность мифа. Автор этих строк уверен, что сказка не только ближе к нам, но и ближе нам, как носителям сознания, отражающего реальность. И даже более того: носителям причинного мышления, мышления в понятиях. Ибо сознание и разум — несовпадающие в своих границах феномены. Сознание может быть и шизофреническим, когда причинность не воспринимается и не принимается. Поэтому решения в духе дихотомии «мифическая реальность — сказочный вымысел» (У. Бэском), когда конструируется гипотетический
«путь от мифа к сказке», связанный с отмиранием этиологии, коренящейся в сакрализованной реальности (Е. Мелетинский), выглядят надуманными, взывая к «бритве Оккама», разрезающей — в данном случае — виртуальную пуповину. Имел
ли место быть хрестоматийный, судя по своей внедренности в учебники, процесс: «реальность — миф — сказка», — или это научный миф, чтобы не сказать «сказка»?
1. «Бритва Проппа»
Значение работы В. Проппа заключается именно в том, что он разрезал виртуальную «пуповину» между мифом и сказкой. До него говорили: «такая-то сказка вышла из такого-то мифа», а В. Пропп растолковал волшебные сказки непосредственно-онтологично, выводя их, минуя мифологию (или привлекая ее только для подтверждения), напрямую из истории, обряда и общественных отношений. Безусловно, здесь сказалась марксистская методология: народная сказка есть элемент общественного сознания, определяемого бытием.
Отдавая определенную дань «связи сказки с мифом», В. Пропп, тем не менее, пишет: «…Отношение между мифом и сказкой не всегда одинаково и вопрос этот не может быть решен суммарно». И далее: «выдвигая положение о связи сказки с мифом, следует отметить, что миф не есть causa efficient сказки»1. После этой новаторской и при этом очень убедительной работы не только теории «отмирания» событийной или сакрализованной реальности на пути от мифа к сказке требуют дополнительной аргументации.
На мой взгляд, совершенно «отмирает» теория десоциализации («миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой»2. Миф социален потенциально (ниже данный тезис будет конкретизирован), тогда как сказка социальна актуально, непосредственно. В отличие от мифа основную коллизию в ней всегда составляют человеческие отношения (даже если героями выступают животные). Она дидактична, а это стопроцентно социальное качество, в природе дидактики нет и в мифе тоже.
К примеру, чему социально учит миф о Кроносе, оскопившем отца, пожиравшем детей, пока те его не убили? Разумеется, абстрактные аллюзии могут быть сколь угодно впечатляющими (символ безжалостного времени и т. д.), но момент социального научения отсутствует. Аксиология мифа внешняя: он ценнен как культурологическое явление; «в-себе» миф аксиологически амбивалентен, тогда как сказка четко расставляет ценности и антиценности на платформе социальности. Причем, вплоть до мелочей, когда уважительное обращение с печкой выступает в качестве источника положительного отношения окружающих к героине и продвигает ее к конечной цели, а неуважительное обращение с печкой приводит к печальному и позорному концу.
В сказке всегда побеждают добро и красота. Последнее, кстати сказать, незаслуженно «забывается». Но ведь красавица не остается лягушкой, а прекрасный принц — чудовищем.
Данное обстоятельство добавляет еще один «социальный» критерий для разграничения мифа и сказки: в ней присутствует не только этическая, но и эстетическая определенность, тогда как он и здесь равноудален от добра и от красоты. Т. е. там, где налицо аксиосфера, где социальные качества, положительные и отрицательные, выступают на первый план, — там скорее сказка, нежели миф. Где социальные качества не выступили на передний план или еще не обрели аксиологическую определенность, — там миф.
Вдобавок к сакраментальному «в сказке всегда побеждает добро и красота» мы обоснуем права еще одного «победителя», причем, не ради классической красоты троичной формулы, а потому что так будет правдивее. Тем более, что третий «непременный аксиологический член» есть правда.
2. Проблема мифогенеза
Предлагаю следующую «феноменологическую редукцию» предметного поля генезиса мифа. Действие первое: выделить общее, что присутствует у подавляющего большинства исследователей, если оно наличествует. Действие второе: очистить это зерно от патины «добавленных мнений», возвратиться к понятию в его чистоте.
В настоящее время трудно найти исследователя, несогласного с тем, что в мифе выражается коллективное бессознательное. Это общее, что можно усмотреть во всех школах после преодоления эвгемерического подхода, когда миф отождествлялся с героическим эпосом, в котором «действуют» якобы реальные древние вожди.
Разнобой подходов касается факторов порождения коллективного бессознательного и, соответственно, мифогенеза.
С одной стороны — «священный трепет» мифологической школы 19в., когда основным системообразующим фактором мифологии казалась сакральность (понятие «коллективное бессознательное» не употреблялось, но дело идет о нем: то же — коллективное и в значительной степени бессознательное начало до появления теологии, а она зарождается гораздо позже мифа; Шеллинг с его «сакральным тождеством» в истоке мифологии по сути дела вышел на «коллективное бессознательное» в современных терминах). С другой — фрейдистский натурализм, когда в качестве первоисточника Эдипова комплекса декларируется конкретное событие преступления, совершенного в незапамятные времена, а миф выступает в качестве развернутого определения «состава преступления» в разныхинтерпретациях (З. Фрейд, О. Ранк, Г. Рохайм и др.)3. Между ними — популярный после Й. Хейзинги «луденсизм», подход со стороны игрового поведения, вызывающий сакраментальный вопрос: а что в человеческом поведении не есть игра? Автору этих строк не представляется возможным дефинирование на данной почве. В сфере идеального абсолютно все может быть представлено игрой и может быть представлено не игрой.
Оценки зависят даже не от ума, а от характера исследователя. На этой зыбкой почве определить специфику мифогенеза невозможно.
Структурализм, являющийся, на мой взгляд, не более чем начетнической интерпретацией гегелевской диалектики применительно к лингвистике у Ф. де Соссюра, в учении К. Леви-Стросса был доведен до абсурда именно в поле исследований по мифологии. Накладывание искусственно (хотя зачастую искусно) скроенного лекала дихотомий на предметное поле любой науки дало не только фонологию Пражской школы, в которой фонема исчезла, как единица, представ пучком оппозиций; не только структурную антропологию, в которой реальная социально-экономическая причинность не учитывается, а первичной ячейкой общества представлена не семья, не род, а четырехчленная авункулатная структура с перекрестными оппозициями, но и структуралистскую мифологию. Постольку поскольку первые два предмета не столь образны, как мифология, там абсурдность столь тонкого раскраивания, что от материи ничего не остается, менее заметна. В мифологии поиск структуралистских «кодов» на базе причинного мышления, в принципе неприменимого к мифологии, приводит к следующему. «Оппозицией оказываются в трактовке Леви-Стросса, например, уши и анальное отверстие (первое — вверху и спереди, второе — внизу и сзади) или глаза и испражнения (первое — неудалимая часть тела, второе — удалимая часть тела)…
Если в животном есть что-либо, изобразимое посредством плюса и минуса, оно называется «бинарным оператором». Так, белка — такой оператор: она влезает на дерево вверх головой, а спускается с дерева вниз головой»4.
Ярким доказательством ошибочности структуралистского подхода является факт, что К. Леви-Стросс при анализе структурных различий мифа и сказки не увидел качественных различий, в основном, количественные. Здесь структуралистский подход, что называется, «не сработал». Ибо, как будет показано ниже, различия между мифом и сказкой носят настолько выраженный качественный характер, что впору в стиле структуралистских оппозиций говорить о противоположности этих двухзначимых проявлений человеческого духа.
Еще одно направление — современный герменевтический мифологизм — распадается на множество школ, объединяемых общей тенденцией: настолько расширительной интерпретацией «мифических архетипов», что это уже не столько не столько мифоведение, сколько литературоведение. Последнее, кстати сказать, «зеркально» стало мифоведением. Так, американские литературоведы почти все являются «мифистами». Анализ любого литературного текста в их восприятии является задачей с одним неизвестным, которым является мифический архетип.
«Популярная на Западе неомифологическая школа в литературоведении, — пишет Е. М. Мелетинский, — имеет тенденцию полностью переносить признаки мифа не только на сказку, но на литературу в целом, стирая таким образом всякие грани»5.
Очень плодотворным представляется «обрядовое» направление, весьма противоречивое «в себе». Так, В. Пропп, приведя мнение Н. Вебстера, согласно которому «обряды…состоят в грубой, но часто очень выразительной драматизации мифов» тут же его опровергает. Первично драматическое действие, миф развивается позднее. В качестве доказательства В. Пропп приводит наиболее архаическое общество австралийских аборигенов, где бытуют очень сложные драматические действия, а мифология на редкость бедна и «зачастую непонятна»6. «Непонятность» мифологии наиболее «первобытного» из народов, как представляется, не случайна.
Существует ли возможность свести в некое целое различные подходы к мифогенезу? Думаю, что синтез возможен, причем, не только в виде «чистого суждения», так, как будто сказки не существует и вовсе, но и в сопоставлении с генезисом сказки.
В чем вообще основная проблема? Почему мифогенез остается тайной для исследователей, испробовавших все возможные подходы? Проблема в Логосе. Главным недостатком всех интерпретаций является такое их достоинство, как логичность и «умность», тогда как миф алогичен и безумен. Исследователи подходили к анализу мифов и строили теории мифогенеза, используя то, посредством чего анализируется все на свете: логический аппарат причинного мышления, тогда как миф не отвечает на требование каузальности, оно ему «до лампочки», как и логика.
3. Противоположность мифологического
и причинного мышления
Переходя к действию второму феноменологической редукции, т. е. возвращаясь к изначальному понятию «коллективного бессознательного», как оно было определено К. Г. Юнгом, мы с удивлением заметим, что в большинстве современных интерпретаций отсутствует главное — его диалектическое зерно.
Личное бессознательное включает в себя комплексы, коллективное бессознательное — архетипы. Архетип — это комплекс, свойственный не человеку, но человечеству и проявляющийся при определенных обстоятельствах, как реакция на некую провокацию7. Но ведь комплексы, включая «обязательный» Эдипов комплекс, который, согласно мнению мифологов-фрейдистов является главным фактором мифогенеза, — это, как ни крути, психогенетические патологии, факторы раздвоения психики.
Считаю необходимым подчеркнуть это, потому что понятие «архетип», дойдя до наших дней, изрядно «замылилось», утратив первоначальный диалектический смысл, вызывая одномерно положительные коннотации. Диалектика коллективного бессознательного, в которой архетип — сила, «что вечно хочет зла и вечно сотворяет благо» (Гете, «Фауст») оказалась утрачена, архетип приобрел облик некоего метафизического и мистического механизма.
Во времена, когда мифоведение и религиоведение предметно совпадали (у Шеллинга, например), ученые выводи-ли религию и миф из одного источника, исходя из «себе-подобных» представлений о мышлении первобытных людей. «Просвещенческая» механистическая наука не могла допустить возможность какого-то иного мышления, кроме логического, представляющего собой процесс последовательного установления причинных связей между явлениями, и формулирования их в виде законов. Первобытное мышление представлялось таковым же, разве что донаучным, т. е. до формулирования законов дело не дошло, целостную картину мира обеспечивает не наука, а религия, — вот и вся разница. Но удивительные рассказы путешественников, а потом и развивающаяся этнология свидетельствовали, что мышление первобытных людей никак не укладывается в прокрустово ложе логики Homo civilis.
Л. Леви-Брюль, отметив бесплодность попыток объяснить первобытное мышление прямыми аналогиями с мышлением цивилизованных людей путем представления его стихийно-религиозным, анимистическим (Э. Тэйлор, Дж. Фрэзер и др.), обратил внимание на противоположность способов мышления, выделив этап пралогического мышления, которое характеризуется: 1) отсутствием склонности к анализу, когда синтез осуществляется непосредственно, без выявления причин события, поэтому «виновным» в событии может оказаться любой фактор во времени или в пространстве; 2) первобытное мышление не избегает, подобно нашему, противоречий, и не имеет склонности впадать в них; оно равнодушно к логическим противоречиям8. Не случайно белые колонизаторы зачастую воспринимали первобытных людей, как детей или сумасшедших. Впрочем, как можно воспринимать индейца, приносящего жертву большому пальцу своей ноги, или папуаса, который убивает соседа, потому что после захода солнца у его хижины завыла собака, а это знак смерти, поэтому он должен был пойти и помочь соседу с переходом? В современном обществе для людей, ведущих себя подобным образом, существует одно место: психлечебница. А ведь это, возможно, нормальные люди: попавшие не в свою эпоху носители пралогического мышления, которое рекапитулировалось в них, как атавизм. Л. Леви-Брюль вывел т. н. «закон партиципации» в качестве «основного принципа первобытного мышления». Он удивительно похож на принцип, именуемый «ядерным синдромом шизофрении», т. е. на синдром расщепления психики.
Согласно закону партиципации (от «парт» — часть), первобытный человек легко допускает, что одно и то же существо может пребывать в нескольких местах одновременно; что в одного человека могут вселяться разные сущности; что одна сущность может вселиться в разных людей; что разные сущности могут вселяться в разные части одного тела. В 1930 г. книга Леви-Брюля «Первобытное мышление» была издана на русском языке издательством «Атеист» стараниями Н. Я. Марра. Выражение «закон партиципации» в ней переведен, как «закон сопричастности», т. е. с почти обратным смыслом.
Это, безусловно, сказалось на общем восприятии теории Леви-Брюля. Объяснить это можно только идеологическими причинами: первобытное мышление представлялось, как сти-хийно-религиозное, анимистическое, а ведь это традиция, с которой Леви-Брюль боролся. С тех пор данное прочтение, совершенно неверное, на мой взгляд, утвердилось в науке.
Буквально «партиципация» на русский не переводится в связи с отсутствием слова «частление», перевод как «сопричастность» является неадекватным, поэтому важно проанализировать, какие понятия Леви-Брюль использовал для объяснения смысла, вкладываемого им в понятие «партиципация».
Произведенный автором этих строк анализ оригинального текста показал, что слово «партиципация» Леви-Брюль объясняет через понятия «партикуляризация» и «партаж» (partage), имеющие прямые аналоги в русском языке («обособление» и «деление»). Отсюда следует, что партиципация означает расщепление. 9 С позиции логики это девиантное, диссоциированное, шизофреническое мышление, которое религиозностью не объяснить.
К сожалению, Л. Леви-Брюль долго оставался непонятым в России, а ведь он выражал мощную научную тенденцию первой трети 20в., которую автор этих строк обозначил как «инверсионный подход к происхождению сознания, языка, общества». За год до книги Л. Леви-Брюля в Германии вышла книга Э. Кречмера «Медицинская психология», в которой говорится о противоположности психики первобытных людей и цивилизованных носителей логического (причинного) мышления, причем, первобытная психика напоминает (Кречмер вообще не видит разницы) психику шизофреников10. Огромный вклад в становление инверсионной теории внесли отечественные ученые В. Бехтерев и И. Павлов. Первый — «когнитивным запретом» на возможность перенесения рефлексологической «объективки» в поле психологии сознания. Второй — учением о первой и второй сигнальных системах. К сожалению, в середине ХХ в. в связи с распространением в западной науке бихевиоризма, а в СССР догматического материализма, возобладал степуляционный подход, прямо противоположный инверсионному: якобы сознание и язык появились в животном социуме «мало-помалу», «шаг за шагом», без диалектического скачка, без перерыва постепенности. В связи с таким поворотом дел идеи Б. Поршнева, который, по сути дела, реанимировал инверсионный подход, стали выглядеть «новаторскими» и смелыми»11. В настоящее время инверсионная теория активно разрабатывается T. Кроу, с уклоном в глоттогенез. 12 Много аргументов добавили результаты изучения гипноза в рамках психоанализа (Л. Шерток и др.)13 и феномена «устойчивого патологического состояния» психики (Н. П. Бехтерева)14. Этими работами доказана несостоятельность неинверсионной логики степуляции; процесса становления человеческой психики, общества и языка «мало-помалу», без перерыва постепенности, без отрицания отрицания в ходе развития. Ю. М. Бородай и Ф. И. Гиренок работами, получившими признание не только среди специалистов, тоже внесли, как представляется, вклад в развитие инверсионного подхода, не упоминая самого термина15. Комплексное рассмотрение инверсионная теория начала человеческого общества получила в работах автора, начиная с 2005 г16.
В контексте инверсионной теории представляется логичным возврат к первоначальному, юнговскому пониманию «коллективного бессознательного» и его основного элемента — архетипа. Только через амбивалентность архетипа, его внутреннюю диалектическую пружину тождества противоположных начал, которые делают его «вечно живым», подстерегающим человека на каждом шагу в личном, в социальном, в творчестве, — в своем неуклонном стремлении обрести бытийность, реализоваться, преодолеть «в-себе-бытие», — мы поймем миф. Поймем амбивалентность последнего, его большую, чем у сказки, «похожесть» на реальную жизнь с ее равноудаленностью от зла и добра, от красоты и безобразия, от неправды и правды, когда от прекрасного до чудовищного один шаг. Самое краткое определение гласит: миф — это провокация архетипа. Он имеет не дидактическое, а клиническое значение.
Коллективное мифотворчество сыграло огромную роль на этапе преодоления девиантного состояния психики. Становление нормальной человеческой психики представляло собой длительный, растянувшийся на тысячи лет сеанс групповой психотерапии; во всяком случае, этот процесс возможен, он может дать результат, как демонстрирует практика психоанализа, тогда как традиционно представляемый процесс: будто у каких-то обезьян «мало-помалу» появилось логическое мышление, в принципе не отличающееся от нашего, — данный процесс был абсолютно невозможен. Социальность мифа — это становление, это потенциальная социальность, которая в чем-то является антисоциальностью, ибо явление на этапе становления всегда проходит через отрицание самое себя. Оскопление отца и убиение детей антисоциальны этически, но как выражения далеко неравнодушного отношения людей друг к другу, это не просто социальность, это ее апофеоз, вопль рождения.
Миф — это эпикриз. Мы не знаем диагноз (хотя начали догадываться), не знаем историю болезни, имея всего лишь скроенные сказителями обрывки эпикризов, — и пытаемся различными логическими методами (эвгемерическими, структуралистскими, герменевтическими и т. д.) восстановить изначальный смысл, которого не было, ибо никто не планировал болезнь. Миф — это повод для восхищения предками, сумевшими преодолеть почти непреодолимый порог, но не повод умничать насчет некой «логики мифа», всегда выдуманной на базе чуждого мифу причинного мышления и выдаваемой за его
«содержание».
Основные качества мифа выявляются наиболее выпукло в сравнении со сказкой.
4. Дифференциация мифа и сказки
Если миф является порождением пралогического (партиципированного) мышления, то сказка — не просто порождение логического (причинного) мышления, она — его манифест. «Выводить» сказку от мифа — это значит не понимать сущности сказки и мифа. Они выходят из разных миров. Они не только не подобны, они противоположны, как лед и пламень, проза и стихи. В своем блестящем эссе «Несколько слов о простоте» Г.К. Честертон буквально несколькими взмахами пера развеял иллюзию полной свободы поэтов писать что хотят и как хотят.
«Поэты, — утверждает Честертон, — облекают в плоть и кровь несмелую утонченность толпы… Никто не написал хороших стихов о том, что дети отвратительны, сумерки нелепы, а человек, скрестивший меч с тремя врагами, достоин презрения». 17
Сказка, о которой многие мнят, будто это такой жанр, когда «сиди и выдумывай, что в голову взбредет, всякое лыко в строку», на самом деле, как ни удивительно, — наиболее регулярный жанр, гораздо более «социально обязанный», чем даже поэзия. Никто не написал хорошей сказки, где зло побеждает добро, безобразие — красоту, а неправда — правду. Сказка — самовыражение устоявшейся социальности, а не становящейся, как миф.
Логика борьбы со злом в сказке неумолима, как комета, сокрушающая погрязшие во грехе миры. В сказке логика последовательна до абсурда. Разве не абсурдом является смерть Кощея Бессмертного?
Говоря «в сказке всегда побеждают добро и красота», мы должны сделать уточнение: если подобные коллизии имеют место быть. Возьмем, например, народную сказку о купце и его работнике, которая в пушкинской редакции называется «Сказка о попе и работнике его Балде». У Пушкина, как известно, все кончилось щелчками, а в версии, записанной в Орловской губернии, купец с купчихой бегут из собственного дома, но батрак их настигает, убивает, после чего берет себе их имение и — «стал жить-поживать, добра наживать» («Батрак» Афанасьева). 18 Хорошенькое «добро»! Извините, но людей жалко, особенно женщину. Не зря «неистовый Виссарион» обвинял Пушкина в «перевирании» народных сказок, уверяя своих многочисленных читателей, что сказки Пушкина «конечно, дурны, конечно, поэзия и не касалась их». 19 В силу народного страдания любой богач виновен по определению.
Впрочем, тогда так думал не только народ, но и многие ученые-обществоведы, вспомним прудоновское «собственность есть кража». Так добро ли побеждает в анализируемой народной сказке? Отнюдь. В ней побеждает не добро, а правда, а о красоте и вовсе речи не идет, эстетическая коллизия отсутствует совершенно.
Если вдуматься — правда и есть единственный непременный элемент аксиологии народных сказок. Сказка учит жизни, оказывая, что есть правда, а что есть неправда, элиминируя моральную дилемму: «добрый человек убил злого, что победило: добро или зло?». Если убил по-правде, то герой прав и вопрос снимается, как пустой софизм. Но у русских крестьян была одна правда; у «благородных» эксплуататоров, — другая, не менее социально значимая; у Пушкина — третья. Сказка, в отличие от мифа, исторична, тогда как миф доисторичен. В сказке всегда побеждает правда, и это настолько непреложно, что пушкинский афоризм «сказка ложь, да в ней намек» мы имеем право переформулировать в примечательный парадокс: «сказка ложь, да в ней правда», учитывая, что правда — это понятие конкретно-историческое. Правда, прошу прощения за банальность, — это не истина отнюдь. Истина объективна, правда — интерсубъективна и я никогда не соглашусь с тем, что гуссерлевская интерсубъективность является адекватной заменой объективности. Правда — это интерсубъективное понятие об истине, которая объективно — другая.
Но интерсубъективность, не будучи равна совокупности субъективных выражений (целое всегда больше суммы входящих в него частей, — Гегель) складывается из них. Как в мифе эксплицируется архетип, точно так же в сказке могут эксплицироваться комплексы. Не случайно психоаналитики практикуют чтение и сочинение сказок в групповой психотерапии, побуждают пациентов придумывать собственные сюжетные ходы и финалы, на основе анализа которых определяют источник патологии. Как признается К. П. Эстес, знаменитый психоаналитик, автор бестселлера «Бегущая с волками»: «…для лечения использую самые простые и доступные средства — сказки». 20
В мифе явлена истина о природе человека, которая, подобно Одину, чтобы состояться, должна пройти через самоубиение, в сказке — правда. Конкретно-историческая правда, в которой зло и добро, уничтожение и становление, Явь и Навь разведены железной логикой, тогда как в мифе они перемешаны безумно, так, что далеко не всегда понятно, что есть что.
Сгруппируем основные различия мифа и сказки, выявленные генетическим анализом.
Главное: мифы суть порождения пралогического партиципированного мышления, в силу чего они:
– Равнодушны к логическим противоречиям (классический пример: противоречивое, логически необъяснимое поведение Ильмаринена в «Калевале», что, кстати, является косвенным доказательством подлинности основы текста);
– Аксиологически амбивалентны (чего стоит образ Одина, который одновременно убийца и самоубийца, злодей и праведник, бог повешенных и бог поэтов);
– Доисторичны;
– Внеличностны;
– Миф ничему не учит — выражение «данный миф учит нас…» является нонсенсом;
– В мифе закодирован архетип, который может выявляться в момент обрядовой актуализации мифа, вызывая зачастую
трансовые явления.
Сказки являются порождением логического причинного мышления, более того, они являются его манифестацией, чем определяется первичность сказки относительно других форм словесного творчества цивилизованного человека. Индетерминизм, допустимый в других жанрах словесного творчества, включая литературный реализм (да! разве дуэль Онегина с Ленским имеет внятные причины? в том-то и соль, что — случайность, недопонимание, глупость; если эту историю пересказывать, как сказку, потребуются дополнительные логические связки, чтобы объяснить, опричинить случившееся) сказке противопоказан, равно как алогичность. Логичность сказки доводится до ригоризма: буквально каждый поступок героя должен быть детерминирован в конкретно-историческом измерении. Последнее на примере означает следующее.
Если бы батрак не завладел имением хозяев, это показалось бы «неправдой» для представителей социального слоя, где сказка сказывалась. Для того, чтобы завладеть, следовало убить, — это «правда» и «добро». А вот Александру Сергеевичу Пушкину подобный финал ни правдой, ни добром не казался в силу более развитых понятий о гуманизме, хотя и тот фактор, что он был помещиком, тоже сбрасывать со счетов нельзя. Сказки:
– Строго «проводят» причинно-следственные связи;
– Аксиология сказки однозначна.
Сказки имеют конкретно-исторические корни и могут, как показал В. Пропп — даже — выражать исторически определенные производственные отношения, а общий облик общественно-экономической формации, как правило, выявляется без большого труда, если сказка достаточно длинна (непритчевая форма)
Сказки несут отпечаток личности сказителя, который проявляется как в момент сказывания, так и в практике пересказывания.
Во-первых, это может быть личность рассказчика, который, в отличие от сказителя мифа, имеет право изменять содержание сказки и подводить мораль, соответствующую его представлениям о правде; личный произвол в отношении мифа недопустим; мифологическая вербальность веками соблюдается в неизменном виде вплоть до мелочей. Во-вторых, это может быть личность сочинителя, которую в принципе можно «вычислить» с большой долей вероятности, исходя из содержания и морали сказки: социальный слой, исторический тип, иногда — пол. Например, сказки «Тысячи и одной ночи» явно имеют гаремное происхождение. На женский склад ума сказителей указывают изящество сюжетных ходов и затейливость любовных приключений, а также апологетика хитрости, которая среди достоинств конкурирует с традиционным для сказок героизмом. В русских народных сказках затейливая любовная интрига почти отсутствует, главными добродетелями выступают женская верность и мужской героизм, хитрить более склонны отрицательные персонажи. Это по большей части порождения мужского ума, хотя, безусловно, имеются подтверждающие правило исключения, например, сказки о Василисе Премудрой и Хавро-
шечке.
Сказка дидактична, причем, этот компонент — не «попутный груз», а составляющая смысла. Выражение «данная сказка ничему не учит» есть нонсенс. Если миф вышел из психбольницы, будучи «разорванным» продуктом сеанса групповой психотерапии, несущим «в-себе» печать ограничного состояния психики своих творцов, то сказка — «отформатированная» выпускница «социального пединститута», она не может не поучать, хотя бы походя. Красавица, в которую влюблен герой, становится лягушкой, потому что он нарушает договор, — прямая дидактика, основанная на железной логике (требование «правильного» поведения). Но, — учит сказка далее, — нет ничего непоправимого, если налицо искреннее раскаяние и желание исправить зло. Дидактика, являющаяся «ядерной территорией» сказки, отграничивает ее не только от мифа, но и от других форм словесного самовыражения: от реалистической литературы (для которой прямая дидактика противопоказана), от фэнтэзи (где дидактики может не быть вовсе, один только «интерес» или даже антидидактика).
Рождение сказки, особенно авторской (впрочем, народные сказки тоже имели авторов) может быть следствием экспликации личных комплексов, когда рассказчик фантазирует от того, чего лишен в реальной жизни и что может обрести только в трансцендентной реальности. Сказка для этого — самый короткий и выразительный жанр, ибо в ней всегда побеждает правда, — правда рассказчика. Не случайно сюжет сказки чаще всего закручивается с выявления какой-либо «недостачи», что отмечалось неоднократно21. Царь теряет сына, жених — невесту, девушка — суженного и т. д. вплоть до «не знаю что», которое находится «не знаю где». Прямой путь к «комплексу», если хотите интерпретировать психоаналитически. Данное положение не означает, что в сказке наличествуют комплексы, но нет архетипов. Есть, но архетипическое имплицитно, опосредованно личностно-историческими качествами и может быть выявлено только достаточно сложным анализом. В сказке архетипическое начало имеет не установочное значение, как в мифе, а орудийное, привлекаемое для упрощения понимания, убедительности и т. д.
5. Тоска по мифу или миф как событие
Современности
Сказка продолжается, мифогенез в прошлом. Выражение «современный миф», на мой взгляд, есть оксюморон. В то же время есть авторы, которые считают, будто «мифы создаются на наших глазах»: «о президенте, о нации, о кризисе культуры, о демократически-капиталистическом обществе…». 22 Действительно, языковая практика часто преподносит нам подобные обороты речи, поэтому само по себе явление, безусловно, нуждается в анализе. К сожалению, понимание сущности мифа часто слишком размыто: «миф — это чистое содержание, которое можно проинтерпретировать бесчисленное число раз…»; «миф — это представление»; «миф — есть система метафор»; «миф — то, что не доказано, но кажется правдоподобным»23 и т. д и т. п. Складывается впечатление, что вместо слова «миф» можно подставить любое другое — «бытие», «любовь», «огонь», «эйдос», «вода», «жизнь», «стихия», «сущность», «апейрон», «женщина», «конь», «смерть», — и «всякое лыко» будет «в строку», включая слово «лыко», контекст не воспротивится. Это симптоматично, нечто подобное наблюдается у всех авторов, берущих на себя труд поговорить на тему «миф, как событие современности»: четкое понятие о том, что они хотят представить, как «современный миф», отсутствует. Прав М. И. Стеблин-Каменский: «Когда объясняли возникновение мифов теми или иными психологическими факторами, то, как правило, подразумевали, что у создателей мифов была та же психология, что у современного человека. Но почему же тогда мифы возникали у всех народов только в древнейшие времена? Очевидно, их возникновение должно быть объяснено особыми психологическими условиями, существовавшими тогда»24 (выделено мной, — В. Т.).
Современное логически мыслящее человечество мифы не творит, потому что для этого нет «особых психологических условий», выявляемых в отношении процесса антропосоциогенеза. Оно вполне эвгемерически творит легенды. Например, легенды о вождях. При этом может быть «легенда о Сталине», а может быть (и есть) «легенда Сталина», — согласитесь, определение «миф» здесь неуместно и недостаточно. Разумеется, если не думать, что «все есть миф», включая заоконную реальность, которая часто являет себя безумной фантасмагорией.
Ход событий и роль исторических личностей могут переосмысливаться и переписываться с разных позиций, но эти позиции, зачастую непримиримые, тем не менее всегда логические, а не мифологические позиции.
1 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — М., «Лабиринт», 2000, — С. 225.
2 Тронский И. М. Античный миф и современная сказка// С. Ф. Ольденбургу: к пятидесятилетию научно-общественной деятельности. — Л.,1934, — С. 534.
3 «…В один прекрасный день изгнанные братья соединились, убили и съели отца» (Фрейд З. Тотем и табу. — Харьков, «Фолио», 2010, — С. 334).
4 Стеблин-Каменский М. И. Миф //Труды по филологии. — СПб., Издательство СПбГУ, 2003, — С. 238.
5 Мелетинский Е. М. Миф и сказка//Фольклор и этнография. — Л., «Наука», 1970, — С. 140.
6 Пропп В. Я., указ соч. С. 83.
7 Юнг К. Сознание и бессознательное. — СПб-М., 1997, — С. 68–69.
8 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. — М.,«Атеист»,1930, — С. 25, 49, 71–90, 111.
9 Levy-Bruhl L. La mentalité primitive. — Paris, 1922.
10 Кречмер Э. Медицинская психология. — СПб: «Союз», 1998.
11 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. — М., 1974.
12 Crow T. J. Is schizophrenia the price that Homo sapiens pays for language?// Schizophrenia Research, 28, 1997.
13 Шерток Л. Непознанное в психике человека. — М., 1982.
14 Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека. — Л., 1988.
15 Бородай Ю. М. Эротика. Смерть. Табу. Трагедия человеческого сознания. — М., «Гнозис», 1996; Гиренок Ф. И. Аутография языка и сознания. — М., 2010.
16 Тен В. В. «…Из пены морской. Инверсионная теория происхождения человека». — СПб., 2005; Тен В. В. Археология человека. Происхождение тела, разума, языка. — СПб, 2011; Тен В. В. Диалектические начала антропоэволюции. — СПб., 2011; Ten V. Anthropology and Linguistics: the Origin of Language //12th International conference on the history of language sciences//SPb, 2011; Тен В. В. Инверсионная теория происхождения сознания, языка, общества (социально-философский анализ» //Автореферат диссертации. — СПб., 2012.
17 Честертон Г. К. Собр. Соч. в 5тт., Т. 5,- СПб., «Амфора», 2000, — С. 377–379.
18 Русские народные сказки Афанасьева. — Л., 1983.
19 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. — М.,1953, Т. 8, — С. 258; Т. 2. С. 347.
20 Эстес К. П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. — М., «София», 2010, — С. 26, 27.
21 См., например: Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. — М., 963. С. 24; Dandes A. The Morphology of North American Indian Folktales// “FF Communication”,195, Helsinki, 1964.
22 Апинян Т. А. Тоска по мифу или миф как событие современности// «Философские науки», №11, 2004, — С. 73.
23 Там же. С. 74–78.
24 Стеблин-Каменский М. И, указ. соч. С. 241.

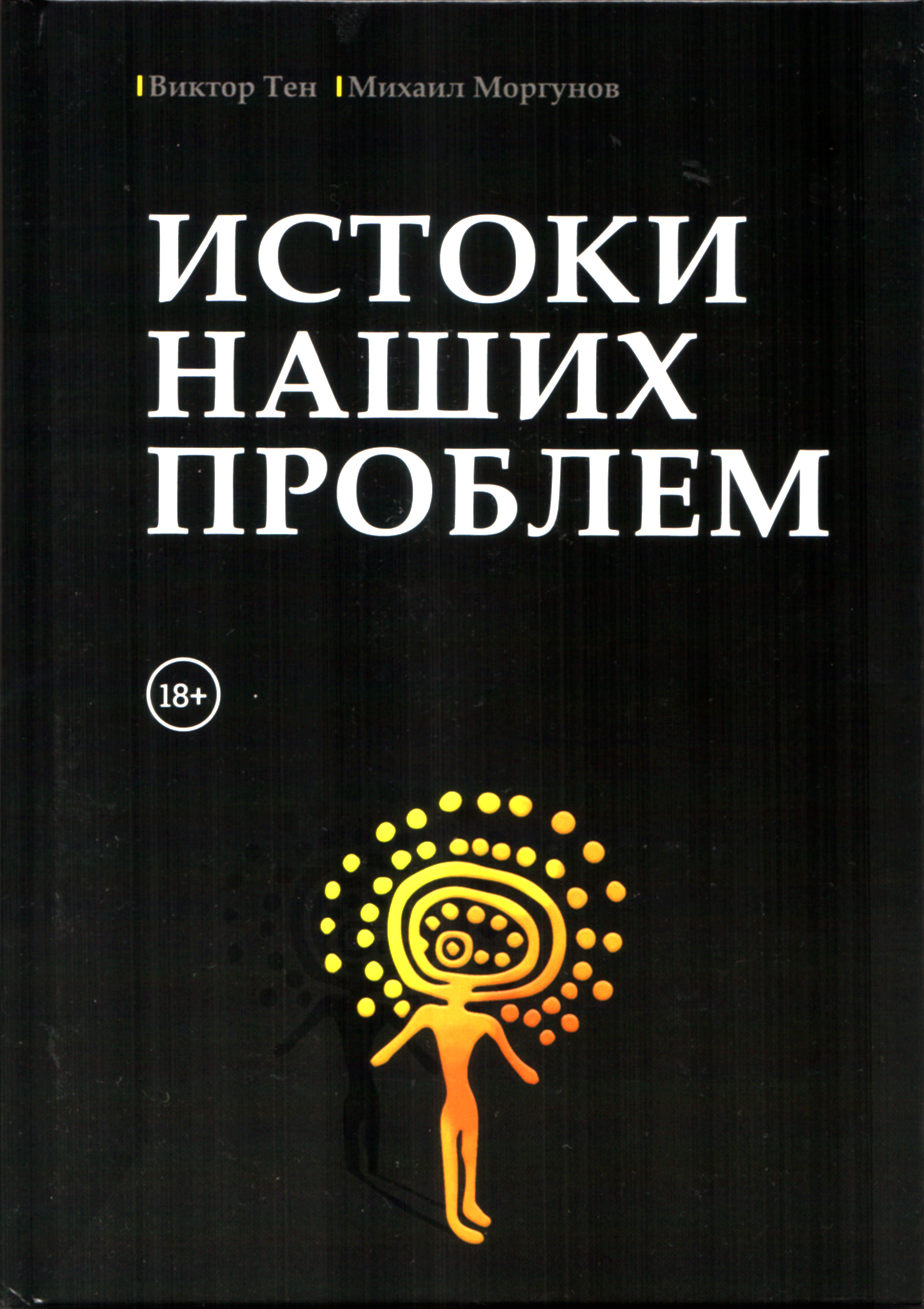


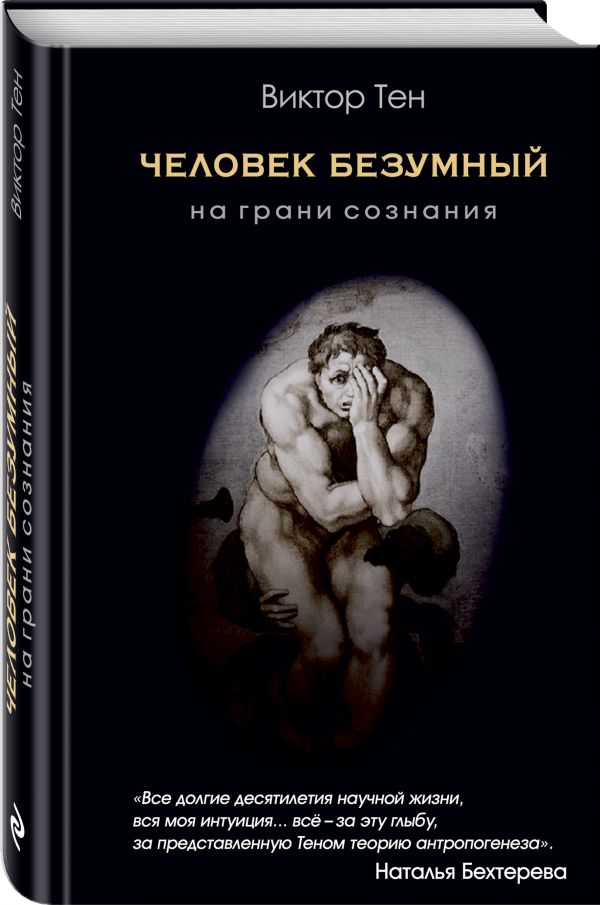
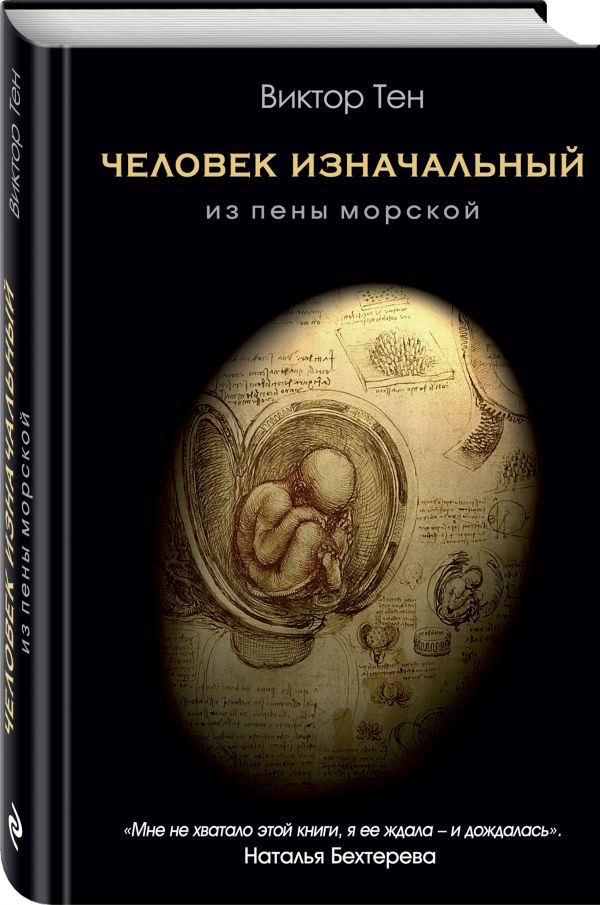
Всё верно и о сказке и о мифе. Помнится история с моей 5 ти летней дочерью и её реакцией на не правильный финал Лебединого озера , был такой опыт восстановления авторского, П.И .Чайковского финала балета когда герои погибают. Нет, это неправильная сказка ! В сказке должен быть хороший конец! Что касается мифов всегда было ощущение странной логики а вот ведь как всё обьясняется…
Виктор Викторович, здравствуйте. Вопрос про детские сказки: какие Вы считаете подходящими для детей вот уже от 6 мес?
Например, подходит ли для малышей сказка про курочку Рябу? Я хорошо помню, как в детском возрасте эта сказка оставляла у меня ощущение недоумения. В более старшем возрасте я уже предположил, что мол не в золоте счастье, но в нежном возрасте и золото никакой ценности для меня не имело, и мотивы персонажей были для меня не понятны.
Сказка «Про Курочку Рябу»- это очень мудрая сказка, в ней несколько смысловых подтекстов.
Первый: когда слишком много сразу, то не впрок. Старики просто хотели покушать, а тут золота немеряно вывалилось из курицы. Они же не деловары, им не по двадцать лет, чтоб бегать оборотами капитала заниматься, зачем им столько? Вот и не освоили и легко потеряли. Мораль: все хорошо к месту и времени.
Второй: в жизни бывают неожиданности, когда что-то сваливается так, что не ожидал. Мораль: если что-то необычное выпало, не спеши обращаться с этим по привычному алгоритму, возможно, нужен другой подход.
Третий подтекст: ирония над собственным возрастом, когда мышкин хвостик оказался мощнее всех стариковских сил. Сказку придумал добрый старичок с чувством юмора, замечательный человек, поэтому она умиляет. Учит жалеть стариков ненавязчиво. Третий смысл: великолепный абсурд. Ум не формируется на том, что прямо положено. Ум растет на противоречиях. Это одна из самых лучших сказок для детей. Она одна — целый учебник мудрости. Подобного уровня, сочетающего в себе строгую дидактическую логику и познавательный абсурд, равновеликого народной мудрости, достиг только Пушкин в «Сказке о Золотом петушке»
А вот всё-таки, история с походом греков на Трою — это миф или предание? Или одно с элементами другого?
В легенду о походе вплели мифологию, которая выступила в качестве деривата причинности. В «Илиаде» ясно проступает требование Логоса все объяснять, но реальными причинами тогда объяснять не умели. Как говорится, было желание купить автомобиль, но не было возможности. Поэтому объясняли все мифологическими «реалиями», которые фантастичны только для нас, тогда как они другого объяснения и не видели. Например, геополитического мышления не было, объяснения типа «Трою надо сокрушить, потому что она своей гегемонией на Ионическом море препятствует нашей гегемонии» вызвали бы гомерический хохот, греки сказали бы: «Ну ты придурок! Надо ж такое выдумать! Трою надо сокрушить, ибо такова воля богов, которые возмущены наглостью Париса!» На переходе от пралогического мышления к ассоциативному требование причинности уже звучит, но с поиском реальных причин еще долго будут проблемы. Вот они и отражаются в произведениях типа «Илиады». Это, говоря языком гегелевской диалектики, «в-себе-бытие» причинности, когда она выступает как антипод самое себя.
Уведомление: Обмен мнениями и пояснения по Метатеории В. Тена | Сайт Виктора Тена
Различие между истиной и правдой заключено в поговорке: «Истина от земли (достояние разума человека), а правда с небес (дар благостыни). Истина относится к уму и разуму; а добро или благо — к любви, нраву и воле» (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка) Точное понимание этого различия можно обнаружить в словах Александра Невского: «Не в силе бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем!» Бог в Любви и Бог в правде, а в истине – человек. Мы за Правду и только потом ищем истину, руководствуясь правдой.
Слово «правда» в русском языке состоит из двух слогов: «прав» – «да» (правь -да), смысловое содержание которых следующее: Правь – мир богов, мир Духа. (Трёхчастное деление сотворённого мира в русской космогонии на Правь, Навь и Явь), «Да» – утверждение.
Правда – утверждение высших законов божественного мира на земле, в мiру, т.е. это слово в русском языке определяется духовным содержанием, вертикалью, поэтому Правда одна на всех и постигается она сразу, без участия логики, ума, на уровне «спинного мозга», т.е. интуиции, правого полушария, иными словами, посредством души. Восприятие Правды характерно отсутствием сомнения, безусловностью, притоком энергии. Русский язык соответствует такому восприятию в силу своей образности, т.е. «правополушарности» и более того, он предназначен именно для передачи восприятия Правды.
Если в общих чертах, сказка, как материал дидактический, а, следовательно, социально полезный, пережила века и осталась с нами. Но живы и мифы. Не имея ни дидактической нагрузки, ни тех, кто бы верил в реальность мифов (за исключением пациентов…), эта форма «народного творчества», тем не менее, не исчезла.
Виктор Викторович, почему мифы не затерялись во тьме веков?
Потому что миф архетипичен, т.е. в подсознании