1.
На Украине запретили коммунистическую идеологию. Ее запретить нельзя. В каждом должен быть «человек для себя» и «человек для других», «всечеловек». Этот последний и есть коммунист, само слово происходит от «коммуна» — «община». Целью правильного воспитания является не допустить в общество «человека только для себя». Другой вариант – «человек для других», — это тоже, конечно, перекос. Таким человеком, например, был Иешуа, сын Марии и Иосифа. Не случайно у него даже семьи не было, вообще ничего не было к 33-м годам. Просто ходячий отрицательный пример, подтверждающий либеральные заповеди типа: «если ты умный – то почему бедный?». Или: «в двадцать лет ума нет – и не будет», «в тридцать лет жены нет – и не будет», «в сорок лет денег нет – и не будет», — и ты лузер, Христос. До сорока Он правда не дожил (еще одно подтверждение лузерства), но сдается мне, если б дожил, денег бы не нажил, дурачок этакий… И этот отрицательный пример является идеалом для доброй половины человечества! А для многих таким идеалом является другой лузер, — Сиддхартха, променявший царство на аскетизм.
В христианском идеале нет ничего, чего не было бы в коммунистическом. И наоборот. Коммунистический человек может быть благодатным, а эгоистический всегда будет безблагодатным. Поэтому прав Ф.Искандер, сказавший: «кто совершенно отрицает коммунизм, — тот подлец…». Слышишь, Порошенко, умник этакий, с потомственно умными генами? Еще папа сидел за воровство. И сынок не дурак: в раздираемой гражданской войной стране личные доходы только по официальной отчетности увеличил в семь раз! Во как антикоммунизм жить помогает! Интересные престолы на Украине. Янукович сам сидел за грабеж, но предки были незапятнанны. Теперь пришли потомственные, генетические воры.
Афоризм Искандера имеет продолжение: «…кто признает коммунизм настолько, что начинает проводить его в жизнь, — тот чудовище».
Таким чудовищем был мой отец.
2.
Тяжелое у меня отношение к коммунизму, лично мне он обошелся дорого. Отец родил шестерых детей, потому что моя мать, как православный человек, никогда не пошла бы на убийство ребенка. Гинекологов, призванных бороться с зарождением новой жизни, тогда не существовало, во всяком случае, в наших степных краях. Тогда данная медспециальность вообще-то именовалась «акушер-гинеколог», ныне первую половину редуцировали, а главной целью гинекологии считается не содействие родам, а воспрепятствование. Я появился на свет, потому что такая деятельность гинекологов была запрещена строжайшим сталинским законом, который еще и при Хрущеве действовал, поэтому второй мой земной отец, это, конечно, товарищ Сталин. Биологические родители, как поженились, так и начали рожать, понимая брак вполне однозначно и первобытно. Квартиру государство дало хорошую, но не потому, что мой отец был начальником. В СССР было немыслимо, чтобы многодетная семья не имела жилья. Их давали даже пьяницам. В нашем доме в такой же точно трехкомнатной квартире жила такая семья, Рыловы. Оба пили, пятеро детей часто голодали. Их подкармливала моя мать. Пирожки она всегда пекла на две семьи. Рыловы любили детей и водку. Если им в руки попадали деньги, они накупали водки и вкусной еды, и наблюдалась картина с маслом и колбасой: Рыловы пили и плакали, а дети смеялись и закусывали. Деньги попадали, потому что оба работали. В обществе развитого социализма не существовало стопроцентных пьяниц. Пьющий человек или работал, или содержался в лечебно-трудовом профилактории, после которого обязательно устраивался на работу, причем, без проблем: участковый обязан был обеспечить, и у человека вновь появлялся шанс. По современным меркам Рыловы даже не алкаши, так, процентов на пятьдесят. Во всяком случае, по помойкам не шарились.
Директор военного автозавода Руденко жил в нашем доме в двухкомнатной квартире, потому что в семье было двое детей, — и был доволен. Странно, но никто не считал этот чисто коммунистический расклад несправедливым, даже взыскательная супруга директора, с которой по-соседски компанействовала мать, хотя за глаза называла «куркулькой».
В нашей большой квартире было пусто. Железные койки, сделанные отцом три стола, несколько табуреток, пара дорожек, сшитых матерью из разноцветных тряпичных полосок. Кстати сказать, очень симпатичные, уютные, — жаль, что сейчас не продают эти предметы женского рукоделия. Они реально красивее и экологичнее современных бельгийско-китайских половых покрытий из синтетики. Жаль, что не сохранилось ни одной такой дорожки, я дорожил бы ею, как самым ценным предметом интерьера. На стенах вместо ковров и картин висели советские плакаты. Вся красота заключалась в них, да еще в ежегодной побелке и патологической чистоте. Например, кухонный стол мать еженедельно не просто мыла, выгребая посуду, которая стояла в столе горками, но обдавала ядренным кипятком и немилосердно скребла ножом. Болели мы редко. Лично я до двадцати двух лет не принял ни одной таблетки. Простуды мать отпаивала травами.
У отца была машина с водителем, который, дядя Володя Белошевский, переступая порог, сходу начинал причитать, если отца не было дома (отец часто посылал его за обедом, потому что на работе дневал-ночевал):
— Боже мой, как бедно вы живете! Да если бы у меня была такая голова, как у Виктора Васильевича, разве бы я так жил?!…
Он и без такой головы жил в разы лучше своего босса, ибо не принадлежал к правящей партии. Его сын не ходил в школу в протертых штанах от старшего брата. Сашка Жуков, заика и двоечник, однажды зловредно их порвал. Нарочно: взял и сделал дырку пальцем и стал смеяться. В отместку я посмеялся над ним на уроке. Отца вызвали в школу. Интересно, сейчас по подобному поводу вызывают? А тогда ставили целью не просто выучить успешного человека, но и воспитать хорошего. Придя, отец сказал:
— Что, очень умным стал?!…
И так посмотрел, что я больше никогда не смеялся над двоечниками. Повзрослев и вспоминая ту сцену, я страдал. Не от стыда, представьте себе, как надо бы написать правильному человеку. Мол, как не стыдно было посмеяться над заикой!… Ай-ай-ай!… Моя взрослая прекрасная душа уязвлена. Я честно выставил себя маленького на позор и побиение и первый бросаю в него принципиальный взрослый кирпич, красный от стыда. Честно? Врет. Это честность с подкладкой из лжи. Многие пишут не для того, чтобы сказать правду, а чтобы явить себя окружающим в лучшем виде. Писательство вообще является удобным способом построить между собой и людьми бетонный забор, чтоб не видели твоих комплексов. На самом деле я всю жизнь сожалел, что не бросил тогда отцу:
— Если ты не можешь купить мне штаны, то не имеешь права и внушения делать!
Тогда не сказал, а теперь он уже неживой. Очень рано, в сорок восемь лет, от профзаболевания умер, от рака легких. Надорвался на стройке коммунизма. Его путь в начальники пролегал не через институт, а через ударный труд, начинавшийся на шахте. Будь он жив, я не уверен, что удержался бы даже сейчас, чтоб не бросить этот упрек. Разумеется, в прошедшем времени.
На той сурьмяной шахте и свел моих отца и мать Кто-то сверху. Из сурьмы делали легирующую добавку для танковой брони, а единственное месторождение находилось как раз в наших местах, рядом с ураном. Потом в этих местах появился знаменитый урановый город Степногорск. А в войну уран интереса не представлял, сквозь него прорубались до сурьмы, прокладывали в штольнях узкоколейки, и шахтеры, подростки и старики, трудились с масляными лампадками на головах на общую победу. Старики рубили кирками породу, подростки впрягались в вагонетки и вывозили до вертикального ствола. На-гора порода поднималась двумя лошадиными силами десяти девчонок-трудармеек. До войны огромный вороток крутили две лошади, ходившие по кругу. В войну их нарядили на другую работу: вывозить конечную продукцию с рудника, потому что грузовые полуторки мобилизовали на фронт. Моя шестнадцатилетняя мать была среди трудармеек, которые, упираясь рваными башмаками в грязь и пыль, в жижу и снег, толкали вороток до синих жил. Бурлачили на разрыв. Реально непосильный труд, мать до самой смерти вспоминала о нем с ужасом. Он ей снился всегда, вороток этот! При этом ни она, ни отец не имели даже удостоверений «Труженик тыла», дававших какие-то ветеранские льготы. Считалось, — что это за жертвы на войну, так, мелочи…
Кроме руды девчонки спускали и поднимали шахтерские бригады. Однажды Кто-то сверху велел ей спуститься в шахту, передать какое-то распоряжение Кого-то еще более сверху. Она застала шахтеров за обедом. Все грызли пайки хлеба, а один худющий подросток сидел в стороне, отвернувшись.
— Почему ты не обедаешь? – спросила она.
— У меня ничего нет, — ответил он.
Она полезла в карман и отдала ему свои сто пятьдесят граммов, наивно радуясь, что ее вовремя оторвали от обеда. С тех пор она, будучи на два года старше моего будущего отца, начала его опекать, в ней проснулся материнский инстинкт, который после этого никогда не затухал. Думаю, что он, инстинкт этот, сильнее, чем любовь. Семья тогда крепка, когда женщина своему мужу мать. Детей не бросают.
У Сашки Жукова мать была одиночка, трудилась где-то на станции на невысоких должностях, но у Сашки было все, чем я был обделен: дорогие механические игрушки, хорошая еда «из магазина», добротная собственная одежда, а я все детство проходил в чужой, от братьев или что давала школа. Он сгущенку вволю ел, а я, сверля полку магазина глазами, ел вприглядку! Это говорит о том, что причин для бедности при коммунистической власти не было. Всего двадцать лет прошло после войны, а простые люди жили вполне хорошо. После либеральных реформ в России прошло уже двадцать пять лет, а бедных больше, по объективным причинам в большинстве. При коммунистах объективных причин для бедности не было, были субъективные, двоих таких субъектов я сейчас и описываю.
3.
Отец был начальником энергорайона, кстати, часто общался с сосланным Г.Маленковым, который со своей электростанции поставлял энергию. У энергетиков была льгота: бесплатное пользование электричеством, поэтому у нас дома изначально даже счетчик не установили. Отец купил его за свой счет и строго сказал матери:
— Бесплатно только сто киловатт-часов в месяц! За остальное будем платить, как все. Думаешь, если власть добрая, ее можно грабить?…
Не понимаю я его! До сих пор образ отца в моей голове не помещается. Он эту власть ненавидеть должен был! Власть, которая выкогтила его, двенадцатилетнего пацана из дома в Хабаровском крае и вместе с родителями, такими же безвинными, как он, в скотском вагоне отправила в Карлаг. Они не являлись заключенными, но тот лагерь в дикой степи, где их содержали на тюремной похлебке только за то, что они были корейцами, иначе, как концентрационным не назовешь. Дед и бабка не выдержали, умерли. Оставшись один, отец так голодал и мерз, что однажды вышел из барака и пошел в степь на волчий вой. Несмотря на буран, он нашел волков, лег среди них на землю и закрыл глаза, но волки его почему-то не тронули.
Невероятно сильная идеология, — коммунизм. Боюсь, не управится Порошенко с ней. Ибо, таких хапуг, как он, на земле не больше, чем людей, которые стяжательство нутром не приемлют. Правда, неизвестно, от кого проистекает больше зла: от хапуг или бескорыстников. Но не хапугам дано победить эту идеологию. Благодаря отцу, у меня стойкий иммунитет на коммунизм, а когда его начинают запрещать порошенки, мне за него вступиться хочется.
4.
Что такое в те времена сто киловатт-часов на семью из восьми человек? У меня сейчас все энергосберегающее стоит, и то меньше ста киловатт в месяц на человека не получается. А при тех лампах накаливания? Уроки старались делать при дневном свете. Не надо думать, что поступки отца были демагогией. Никаких корреспондентов, призванных отразить бытовую скромность, в доме не стояло. Карьеристом отец не был. Его выдвигали на должность председателя горсовета, он отказался и предложил монтера Шакина со своего предприятия. И простой работяга, семь классов образования, стал управлять городом! Кстати, эти Шакины, когда приехали в наш город, жили у нас не меньше года совершенно бесплатно, пока не получили квартиру. У нас частенько кто-то жил. Я вспоминаю не менее пяти таких семей. Фамилии помню: Гудожниковы, Шакины, Белоусовы, Бодаш, Куренёвы… Приехали люди – и некуда, и денег нет. А вот есть семья, которая всем помогает. Когда люди с детьми и чемоданами на пороге, мать не могла отказать. Северный Казахстан после подъема целины стал привлекательным местом массовой миграции, особенно много ехали почему-то из Украины и Нечерноземья. Инфраструктура уже была, народ собрался интересный, в основном, молодежь, к приезжим отношение было самое теплое, не такое, как в традиционных этнических регионах, где на приезжих долго косились, мол, «не наши». В наших местах местничество отсутствовало, здесь все были «наши». «Ну что делать? – вздыхала мать, — Поживите чуть-чуть…». А чуть-чуть не получалось, на месяцы и годы растягивалось. Пока не получат первые зарплаты, «гостей» надо было еще и кормить. Кто двоюродный, кто троюродный, кто вообще никто, как Шакины, которые отдалились сразу, как только дядя Толя стал градоначальником, кстати сказать, довольно неплохим. При нем весь город покрылся асфальтом, были заведены ровные газоны, которые регулярно постригались, как и кусты-деревья. Мусор вывозился вовремя, и я не помню, чтобы на улицах валялись хотя бы окурки. До того, как город преобразился, чинарики валялись везде. Мы, мальчишки, их подбирали и докуривали. У шакинского асфальта выявились окуркоцидные свойства.
Когда город обрел цивильные мостовые (этот асфальт с шестидесятых годов до сих пор держится местами, никто его не обновлял!), жители сами начали поддерживать чистоту, регулярно выметали дворы и тротуары рядом с домами. Чистота, как и грязь, размножается. Где грязно, там и сорят, где чисто, там и убирают, — вот парадокс человеческой психики, говорящий о том, что у человечества, возможно, есть шанс. Как в еврейском анекдоте, кто пойдет в баню: чистый или грязный? Меня талмудический парадокс не разводит: конечно, чистый.
Сейчас много снимают фильмов о советской эпохе, только ностальгия эта странная, довольно брехливая. Если показывают небольшой город, не Москву или Ленинград, то все ободранное, покосившееся, серо-коричневое. В нашем двадцатитысячном городе Ерментау улицы были ровные, зеленые, чистые, не было ни одного ободранного дома. Любой косметический дефект заделывался буквально на другой день после его появления. Это сейчас дома там так ободраны, причем, все подряд, что это уже иное качество: складывается впечатление, что это дизайн такой. Нерезиденту смотреть на эти пятна любопытно даже. А резидентам, наверно, надоедает. Постмодернистский город с непроезжими весной и осенью улицами. В семидесятых годах при монтерской власти в домашних тапочках можно было обойти весь город, не замочив ног. Женщины так и ходили к подругам: в тапочках. Сейчас с трудом тягают ноги в резиновых сапогах.
При этом начальство работало за более чем скромное вознаграждение. Градоначальник получал, как мой отец: сто двадцать рублей в месяц. Примерно столько же получал учитель на одну ставку. Недавно я сделал потрясшее меня открытие. Оказывается, в СССР больше всех зарабатывали писатели, художники и ученые! Чиновники и прочее начальство отставали существенно. О писателях-художниках молчу, им бешеные гонорары выплачивались за каждую книгу и фреску. Ученые получали по фиксированным ставкам и там расклад был следующий. Кандидат наук из какого-нибудь провинциального пединститута получал больше председателя райисполкома. Доктор наук получал больше председателя облисполкома, на уровне замминистра. Академик получал больше министра. Это если не считать гонорары за публикации (за статью можно было съездить на море с семьей, за книгу купить кооперативную квартиру в столице) и премий за изобретения-открытия. Всего получалось столько, что, как мне рассказывают знакомые профессора, ныне получающие на уровне дворников, некуда было девать деньги. Вот на чем зиждилось интеллектуальное превосходство СССР над всем человечеством, вот почему у нас была лучшая школа в мире. Современный эффективный менеджер, управляющий городом, получает столько, сколько все учителя, вместе взятые. Наверно, считает себя выдающимся художником, украсившим город невероятно замысловатым дизайном в новаторском художественном стиле «облуп». Результат потрясающий, впору Гельману поучиться.
Ныне только и слышишь: нельзя чиновникам платить, как врачам и учителям, они от бедности злоупотреблять будут! А от богатства не злоупотребляют. Для жадности человеческой всей золотоносной Сибири мало, справедливо говорил Ломоносов. Почему раньше не злоупотребляли? Объясняю: потому что коммунистами были. Не такими оголтелыми, как мой отец, но все равно. Эта идеология где-то является родственницей честности.
Вообще я считаю, что СССР развалился не от бедности, а от богатства. Стало много людей, которым было некуда девать деньги, они и развалили. Например, нельзя было купить самолет, посадить в него толпу дорогих проституток и полететь на курорт кутить. Много получавшая интеллигенция первая начала… Плохая власть запрещала жить столь красиво. А красиво жить не запретишь.
5.
Добрую треть своей зряплаты отец оставлял в бухгалтерии. Как коммунист, он не мог пройти мимо нужд коммунистов Кубы, голодающих детей Алжира, конголезцев, боровшихся под руководством Лумумбы за свободу. У нас было несколько фанерных чемоданов облигаций внутренних займов. Мать, действуя в другом направлении, тайком возила детей в Целиноград в церковь крестить. Я даже не могу представить, какой был бы скандал, если б отец узнал об этом. Но в остальном у них было полное согласие: он в дом приносил почти ничего, она и это раздавала. Однажды, когда в доме не было хлеба и денег, мать набрала ведро картошки и пошла к магазину с намерением продать. Возвратилась с голыми руками. Старшая сестра Люба, которая сразу все поняла, сказала с упреком:
— Хоть бы ведро оставила!
— А в чем бы они картошку понесли? – возмутилась мать, — У них ничего нет!
Не знаю, кто ей приблудился по дороге, благо, ведром картошки отделалась, домой очередных объедал не привела.
Коммунист плюс православная равно житейская катастрофа. Но жизнь, как ни странно, сложилась из неслагаемого. Не думаю, что они поладили бы, если б кто-то из них был либералом. На православие, здесь маме спасибо, у меня тоже приобретенная аллергия. Чем оно, на мой взгляд, отличается от иудаизма, лютеранства или католичества? Очень просто. Допустим, в немецкой семье два сына, один старательный и тароватый, другой полный неудачник, с каким-нибудь пороком в обнимку живет и расстаться не может. Родители этому лузеру помогут раз, два, три, все не впрок. Тогда они скажут: если ты такое золото, что не можешь жить самостоятельно, то кому ты нужно, такое золото? И сосредоточатся на хорошем, все ему отдадут. Пусть неудачник плачет. Он отсеется, немецкий род продолжится хорошими генами и умноженным состоянием. Православный подход наоборотный. Зачем поддерживать благополучного? Он и сам не пропадет. Православные вокруг убогого будут икру метать, еще и хорошего сына станут морально насиловать, чтоб на братца никудышнего работал! Бездонную нужду будет поддерживать православный человек, пока сам не иссякнет! Не приглядываясь: впрок ли идет добро, или мимо пропадает? Вот есть яма без дна, зачем в нее что-то класть? Православный человек отличается тем, что в эту яму не заглядывает, не требует ни результата, ни, тем более, отдачи. Он просто дает, потому что не может не дать, — и плодит убожество. Традиция естественный отбор делать мешает, — не в этом ли главная наша проблема? Ведь даже домашние куры забивают больных и слабых! Не надо устраивать куриный раздолбон, но зачем поддаваться безудержной жалости, доведенной до абсурда, зачем до такой самоубийственной степени над природой стебаться? Это ведь тоже означает идти на поводу у своих чувств, а в таком случае даже достоинство становится своего рода пороком. Россия – страна убогих, но не надо винить в этом только семидесятилетний коммунизм. О, это традиция гораздо более глубокие корни имеет! Моя мать, поддаваясь своим чувствам, к состоятельным людям относилась нелепо-недоброжелательно. Поэтому у нашей семьи разладились отношения со всеми, кто у нас жил, начиная на новом месте с нуля. Они все встали на ноги и начали неплохо жить для себя. «Куркули!» — говорила мать, а куркули для нее просто не существовали. Это отрицательное отношение к благополучным было продолжением безудержной жалости к убогим, продолжением добра за его пределы.
6.
Назойливое воспоминание детства: мать всегда мечтала устроиться проверять счетчики электроэнергии, потому что у контролеров был ненормированный рабочий день. «Энергосбыт» подчинялся моему отцу, но тамошний многолетний начальник, дядя Леня Куренёв, который, приехав в Ерментау, тоже жил у нас с женой и сыном, ей отказал. Мой отец, который и определил его на эту должность, категорически запретил Куренёву брать на работу мою мать: считал, что это будет злоупотреблением. Свою жену дядя Леня на эту непыльную работу, которая позволяла женщине полноценно вести домашнее хозяйство, устроил. Он тоже был коммунистом, но идейным, а не практическим. Мама была вынуждена устраиваться ночной няней в интернат (днем со своими детьми, ночью с чужими), уборщицей (работа рано утром и поздно вечером) – и, как ни странно, к моменту выхода на пенсию набрала тридцать лет трудового стажа. Если б не эти деньги, не знаю, как мы жили бы… Да, еще выручал огород. Это была полностью зона нашей, детской ответственности. Мать, в основном, руководила. Немалое подспорье: будучи старшеклассником я скалькулировал… Вышло, что на своих шести сотках мы выращивали овощей и картошки почти на тысячу рублей в год! Не меньше, чем приносил в дом отец! Короче, не голодали. Если б все вокруг так жили, было бы вполне сносно, но оставалось чувство обиды оттого, что другие живут лучше нас. Почти все, далеко не начальники, не таланты, посредственный народ! Было стыдно за обстановку, над которой хихикали приходящие в гости друзья: в их квартиры «на ножках рахитичных вползали гарнитуры», как писал поэт Вадим Шефнер. У детей даже мода появилась: приводить домой друзей со двора смотреть обстановку. Все эти серванты со стеклами и зеркалами, массивные шифоньеры красного дерева, из опилок тогда не лепили, трюмо с виньетками и даже – о безумие! – мягкие кресла, в которых ты терял вес напрочь, ощущая себя погруженным в облако. Было стыдно за поношенное бывшее голубое «выходное» пальто матери, подаренное отцом на свадьбу, а второе в ее жизни пальто подарил я, когда заработал триста пятьдесят рублей в студенческом стройотряде. Мы, дети чувствовали отношение. Окружающие, внешне демонстрировавшие уважение, на самом деле считали родителей наших дураком и дурой, и были по-своему правы. Временами меня терзали чувства, подобные тем, которые переживал мальчик Илюша из романа Достоевского «Братья Карамазовы».
7.
Второй мечтой матери была «коровка». Тогда многие держали коров, несколько раз соседи предлагали матери «телочку». Любыхи, из Западной Украины приехавшие, даром отдавали, мол, вернете телочкой, когда наша отелится. Не просто отдавали по просьбе, — уговаривали взять, навязывали… Телочка подросшая, загляденье, жалко резать, отличная коровка будет уже на следующий год… И сеном поможем, у нас много, все равно останется… У тетеньки Любых, забыл, как ее звали, пусть земля ей будет пухом, треть лица покрывало родимое пятно. Они оба были с дефектами, Любыхи. У него походка была странная, мелкая-мелкая, как будто по дороге перед ним были натянуты веревочки и он рвал их ногами. Говорили, что он лишился пальцев ног в каких-то «лесах». В Казахстан Любых был, похоже, сосланный. Он ни с кем не общался. Таких у нас было много. Был, например, рыжий эстонец Мартын. Он работал в НГЧ, в организации, которая обслуживала жилой фонд и всегда ходил с тяжелым инструментом: лопатой, топором, киркой, ломом, кувалдой. Огромный Мартын безотказно использовался на ломовых работах. Отказаться он не мог, потому что не мог обосновать отказ: у него был вырван язык, а русской грамоте Мартын не знал. Были Аушевы, ингуши. Борька учился со мной в одном классе, хорошо рисовал и все время ходил с улыбкой. Агрессии в Ромке не было никакой, равно как и в его отце, уникальном строителе красивых домов. Каждый год борькин отец бесплатно оформлял новый участок земли на окраине города и за лето возводил дом. Продавал дорого, потому что дома были очень добротны и красивы, с резными крылечками, наличниками. Это была очень зажиточная семья. Известный публицист Анатолий Стреляный, который в молодости работал в нашей районной газете «Прогресс» и с которым я переписывался уже в 80-х годах, в одном из своих «перестроечных» очерков, опубликованных «Новым миром», написал, что в СССР был самый свободный в мире труд. Преследовали только за нетрудовые доходы, а трудом можно было зарабатывать сколько угодно без всяких вычетов. Люди кролов держали, шапки шили, сапоги тачали, машины ремонтировали, свиней откармливали на продажу, по дереву работали красиво… Рынок был полон плодами рук человеческих. Врут, что до перестройки ничего не было, это в магазинах был голяк, а на рынках все было. В коммунистическом Союзе предпринимателей было больше на душу населения, чем в капиталистической России, настоящий рынок задушили искусственным, который все пытаются создать, «развивая» мелкое предпринимательство. А вы его в покое оставить не пытались? Он от вашей помощи чахнет.
Стреляный, как и я, антикоммунист, но, как честный человек не может не признавать очевидные факты. Факт, что Аушев нигде официально не работал, но никто его не арестовывал и из доходов его немалых не вычитал. Все проверки выявляли только трудовые доходы, — и живи, человек. Выходит, что коммунизм был, а тоталитаризма не было. Между тем, коммунизм запрещают как «тоталитарную идеологию». А бывают ли вообще нетоталитарные идеологии? Может быть, все зависит от практики применения? Толерантность тоже парадоксально может быть тоталитарной. Когда в Америке хозяйку цветочного магазина, отказавшуюся оформить цветами гей-свадьбу, замордовали и засудили так, что ей пришлось бежать из родного города, чтоб еще и не убили, — это разве не тоталитаризм? Она ничего плохого о молодоженах не говорила, просто отказала и все! Где толерантность и где тоталитаризм? Совпали, кто б мог подумать! Какой-то, сверх-разнополый, разновалентный брак двух идеологий, брак коммунизма с православием отдыхает!
А ведь цветочница-то права была! Что такое цветок? Это половой орган растения. В свадебные цветы вполне определенная символика вкладывается. Цветы только у тех растений бывают, которые размножаются половым путем, поэтому гей-свадьбы пристало украшать искусственными цветами.
В девяностые борькин отец пытался продолжить свою улицу, но оказался тоталитарно обложен со всех сторон, как заяц. Вдруг вызверились сотни хищных глаз: не нажил ли кто жирок домашний, чтоб полакомиться? Советская власть вообще не интересовалась домашним жирком граждан. Не стало бесплатных участков. Даже за деньги надо было еще и взятку дать. Не стало дешевого леса. Народ обеднел, дома приходилось сбывать за копейки. Наехали налоговики и рэкетиры. Десятки инспекций оказались озабочены санитарным и прочим «состоянием». Попал строитель в непреодолимый круг и, сидя дома, мечтал о тоталитарных временах, в которых было столько свободы.
Любых прибегала к моей матери несколько раз. «Ну, возьмешь?! Возьмешь?!… Мотя! О детях подумай! Дети без молочка растут!»… Видимо, ей в самом деле жаль было забивать на мясо справную телочку. До сих пор помню, как багровело пятно на лице, когда она с жаром вразумляла мою мать. Но партия в то время боролась с личным подсобным хозяйством и прочими проявлениями частнособственнических инстинктов. Появились хрущобы с квартирами почти без кухонь, предполагалось, что люди начнут брать готовые обеды в домовых кухнях, а свободные женщины с энтузиазмом будут трудиться на стройках коммунизма. Отец устроил матери выволочку за малодушное (мать за телочку, повидав ее, рыдала), проявление частнособственнического инстинкта, поэтому мы росли без молока и без мяса. Выволочка состоялась в буквальном смысле: отец в сердцах так хлопнул тяжелой сталинской дверью, что мама, со слезной мольбой за ним ходившая, отлетела, упала и долго потом запудривала синяк на лбу. Это был единственный случай, когда отец ударил мать. Он вообще был предобрейший человек, пальцем никого никогда не тронул. Рабочим мелкое воровство прощал, а те на него молились. Знали: если по глупости в милицию попадешь, Виктор Васильевич договорится и в райотделе и с прокурором, на поруки возьмет, выручит. Ссуды из кассы давал безотказно рабочим, выговоры за это получал. Только себе никогда ничего не прощал и от этого умер. Был монтер, молодой парень, пришедший из армии с удостоверением высокого разряда, отец его к работе допустил. А он полез в высоковольтную коробку – и обуглился, единственный сын у матери. Комиссия отца оправдала полностью, а он почернел от переживаний. Столкнувшись с убитой горем матерью на улице, пришел, слег и вскоре умер от скоротечного рака. На могиле поставили памятник со звездой, которую приходилось регулярно восстанавливать, потому что ее кто-то сбивал. Говорят, что это делала мать того мальчика.
8.
Как я сейчас понимаю, бедность обеспечила нам наилучшую диету. Литр молока стоил, как килограмм рыбы, килограмм мяса – в десять раз дороже. Рыбы в магазинах было завались. Министр Ишков в те годы поднял рыбную отрасль на небывалую высоту. Океаны бороздили советские заводы-флотилии, а всю свежемороженную добычу везли домой, а не в Пусан. Куски крупной рыбы типа палтуса и трески в магазине стоили сорок копеек, камбала стоила тридцать. Хек, минтай и прочая нототения отдавались почти даром. Люди животных кормили рыбой и стыдились признаваться, что иногда и сами едят. Когда женщина хотела съехидничать, она говорила знакомой: ты, дескать, молодец, рыбку часто на стол используешь! это ж какая экономия!
— Да ты что! Сдурела?! – с удовлетворением слышала в ответ, — Да мои ее на дух не переносят! Если бы! А то всем мясо подавай! Увидела она! Да один раз за год и пожарила!
Бывало, отпиралась от рыбы и моя мать. Слаб человек, увы… А сама в магазине просила забрать назад кильку по десять копеек килограмм, которую по ошибке завесили вместо тюльки, которая стоила на копейку дешевле.
— Тюлечка повкуснее, мягше! – говорила при этом.
Продавщица ехидно улыбалась, а я сгорал от стыда.
В первом классе наша прекрасная молодая учительница Тамара Григорьевна повела нас в поход на Калкаман, живописное урочище между поросших лесом сопок, где из родника вытекает речка Чимбулак. Путь пролегал через поле, усыпанное разноцветными крупными цветами: желтыми, красными, синими, фиолетовыми. Мы их называли подснежниками, хотя на самом деле это сон-трава, бархатный подвид тюльпана. Гладкие тюльпаны отдыхают, наши гораздо красивее в своем легком лануго, благодаря которому создавался эффект подсветки, отлива. Никто до сих пор не смог приручить их в цветник и теплицу, растут только на воле. Радостно, споро растут, дружно, – с одного маленького кустика букет, одним движением руки. Все поле, как одна огромная клумба, а в небе заливаются жаворонки! Мы бегаем друг за другом, пинаем сочные бутоны, которые взлетают в небо с влажным звуком. Цветы на земле, цветы в воздухе, фонтан из цветов!… Дураки мы были. Нет больше того цветочного ковра: тюльпаны размножаются исключительно половым путем, и, если убиваешь цветок, продолжения не будет. Счастливые дураки. Счастливые всегда дураки.
Для меня счастье кончилось быстро. У бодро журчащего весеннего ручья начали накрывать поляну и мне пришлось отойти в сторону, потому что пайки с собой не было. Мать завернула мне отварной картошки с жареной рыбой, но разве я мог взять такое на поляну? В подобных случаях полагалось брать с собой что-нибудь «из магазина»: колбасы, конфеты, печенье в пачках… Еще чего! Чтобы все интересовались: «Это что, рыба?» — и отворачивались.
Когда поляну накрыли, Тамара Григорьевна пригласила всех к столу, в том числе, конечно, меня. Но я ведь не Рылов, чтоб нахлебничать.
— Да я не хочу! Вы ешьте, я погуляю пойду!
Под ложечкой, конечно, сосало. Набегал кругами километров восемь, если учесть, что тюльпанное поле три километра простирается…
— Витя! Куда же ты пойдешь один? Нет, я тебе не разрешаю. Идем, я много взяла, нам хватит с тобой! Идем-идем! Сядем рядышком, поедим, побеседуем…
Отрицательно поведя головой, я сел в сторонке и отвернулся. Они даже не начали есть. Все как-то притихли, никто ничего не взял с поляны. Двое подошли ко мне, одного помню до сих пор, Толик Домащенко:
— Вить, пойдем, а? Ну, Витек! Там жратвы на всех, еще останется! Знаешь, сколько все набрали всего?!…
Еще больше уязвили по доброте сердечной.
— Домой пойду, — сказал я угрюмо.
И пошел восвояси.
— Витя, вернись! – крикнула молодая учительница. Мы были у нее первыми, у Тамары Григорьевны Тимошенко. Талантище учительница родом с Украины. Как она «Без семьи» Гектора Мало читала! У всех слезы на глазах, невероятное потрясение. И ведь она далеко не исключением была. Все учителя были лучшими, таких, что похуже, не было, не то что плохих. Мы даже дрались с ребятами из параллельных классов, доказывая, что наша учительница лучше всех. А те за своих стояли насмерть. Мне потом пришлось поработать в школах в разных городах и весях, и вот что я скажу: среди сотен коллег я не встретил ни одно случайного, равнодушного, некомпетентного человека. Все любили детей по-настоящему, к профессии относились с каким-то священным пиететом, который, как ни удивительно, не растрачивали до выхода на пенсию. Свои предметы так давали, что нашему поколению хватает до сих пор с запасом. Теперь преподаю в ВУЗе и удивляюсь невероятным пробелам в элементарных знаниях. Прекрасный учитель, как массовое явление, — это богатство дороже любой нефти и золота для нации. Советский Союз имел этот золотой запас. Много пообщавшись с заграничным народом, в том числе с докторами наук, скажу вот что: такие учителя, которые на нашем буранном полустанке работали, любому Итону сделали бы честь. Там хуже учат. Неучи наши «западные партнеры». Подобной системы подготовки педагогических кадров не было нигде и никогда и, думаю, уже нигде и никогда не будет. Но увы, ее вынудили на суицид, дорогую Елену Сергеевну, уникальное для человечества явление. Но, мне кажется, не зря она прожила. Если Россия вновь поднимается, то только благодаря ей. Мальчики 60-80-х годов делают сейчас историю. Что тогда учителя заложили, то и будет.
Ничего я не ответил, только опустил голову и ускорил шаг.
— Витя, вернись! Ребята, верните его!
Сейчас я вхожу в положение Тамары Григорьевны. Она за нас отвечала. Для нее это было серьезное испытание.
Несколько одноклассников догнали меня и стали хватать за локти.
— Витька, да ты что? Пойдем! Ты думаешь, нам жалко? Да там жратвы завались, все равно останется!
К сожалению, никто не догадался сказать: «Вернись ради Тамары Григорьевны! В какое положение ты ее ставишь?». Это было единственное, что могло меня урезонить. Но мы, дураки, тогда ничего еще не понимали. Жратвой они вздумали меня задерживать! Не тут-то было. Я своих родителей сын.
Началась потасовка. И тут молодая учительница приняла единственно верное педагогическое решение. Не знаю, каково ей потом отдыхалось на лоне природы, но она сказала:
— Ребята! Отпустите его…
И я пошел домой, пиная цветы уже не игры ради.
Прости меня, Тамара Григорьевна! Прости дурака старого.
9.
Это не голод, когда можно сварить собственной рассыпчатой картошечки и поесть с ароматной килькой. Мы по-бедности питались рыбой и овощами. Ввиду собственной теории происхождения человека считаю, что диетически нам повезло с бедностью в СССР. Тогда я этого не осознавал и, когда, допустим, забегали друзья, а я в то время ел рыбу, — старался быстро убрать тарелку, чтобы они не заметили.
…Быстро убрал тарелку, услышав дверной стук. Мать стирала, поставив корыто на кухне. Влетела Рылова.
— Мотя! – захрипела прокуренным горлом, — Он умер! Просыпаюсь, к нему бегу, а он холодный весь! Ой, какое горе! Ведь мне его и похоронить не на что! Землице предать!
— Да ты что?!… Из больницы выписали, вроде бы ничего был?
— Выписали! А он дома умер! На четвертый день!
— Вот врачи! – возмутилась мать, — Что они понимают, турпаки эти? Выписали! Что они, не видели, что ли?!…
Врачи, я думаю, все видели, потому и выписали. Только моя мать могла наивно думать, что в больнице спасают до последнего.
Неожиданно зазвонил телефон. Поскольку у матери были мыльные руки, трубку взял я. Звонила директор школы Татьяна Васильевна Вожакина:
— Витя! Давай в школу! Бегом!
— Зачем? – ошарашено спросил я. – Сегодня каникулы!
— Я тебя жду в кабинете!
И я побежал в школу.
— Ты знаешь, что в Москве состоится Всесоюзный слет пионеров? — спросила директриса, невысокая, нетолстая, но упруго-полнотелая дама с характерными морщинками вокруг губ, говорящими о строгости, принципиальности и, парадоксально, о чувстве юмора. Интересное было лицо, пусть земля будет пухом нашему замечательному директору. Мама тоже была не лишена чувства юмора. Бывало, мы с ней хохотали так, что не могли остановиться. Но песни пела всегда грустные и почему-то украинские.
Еще бы не знать о слете! В «Пионерской правде» каждый день об этом великом событии печатали. Кто знает, что значила для всех советских людей краснозвездная Москва, какой несбыточной для большинства мечтой была? Сейчас Москва не та и народ не тот. Для нашего народа «Москва» означало «Все самое лучшее, что есть на свете». Как мусульманин мечтает совершить хадж в Мекку, так каждый советский человек мечтал совершить хоть раз в жизни паломничество в Москву. Я об этом и мечтать не смел.
И вдруг строгая директриса растягивает свои морщинки и говорит с ликованием, будучи сама не в силах сдержаться:
— В этом году нашему району оказали честь послать делегата! Только что закончилось совместное бюро райкома партии и райкома комсомола! Было несколько кандидатов, все достойные ребята, но я добилась, чтобы послали лучшего ученика нашей школы! Это, конечно, ты!
Татьяна Васильевна посвятила себя детям, но своих у нее не было, жениха забрала война. Строгая в школе, она не могла пройти мимо играющих детей. Останавливалась, разговаривала, смеялась… Болела азартно. Причем, за обе команды сразу. Совсем другой человек, чем в школе. Говорят, что это признак аристократии: простота манер и умение держать дистанцию.
Сколько картин мгновенно пронеслось в горячечной голове моей! Я от радости едва не лопнул. Разве можно так с детьми? Если б Татьяна Васильевна легкими намеками неделю к этому известию готовила, и то мало было бы. Я не заметил, как вылетел из школы и влетел домой. Время сжалось в один миг. Весь город стал другим, если б не привычка ходить по определенному маршруту, я мог бы заблудиться на одном квадратном метре, как воротковая лошадь, которую отвязали.
— Мама! Меня на слет посылают! В Москву!
— Тише! – оборвала мать, — Илюша умер!
Пятый сын у нашей соседки родился слабым и с целым букетом болезней, что, конечно, было не удивительно. Моя мать возилась с ним не меньше, чем родная. Если не больше. И он стал для нее тоже почти что родной.
Рылова сидела на моем месте, уронив голову на стол.
— Даже гробик купить не на что! – хрипела она.
— Витька! – сердито молвила мать, — Вот почему мне от тебя вечное горе? У людей дети, как дети, а с тобой вечно какая-нибудь зараза приключится! То у Вечного огня стоит, то на Олимпиадах награды получает, то рапорт какому-нибудь, твою мать, герою отдает! И все деньги! То галстук новый, то рубашку, то… Где я тебе денег наберусь? Рисую я их, что ли?…
Ее речь я передаю не аутентично. На деле все звучало гораздо нежнее, от всего, что называется, сердца. Наверно, мать была очень расстроена в тот момент. И боролась сама с собой. Отсюда агрессия в мой адрес. Даже слово «выродок» прозвучало. Смешно? Выродок, не способный учиться на четверки. Даже если уроки не выучены, все равно больше программы знал, как правило, выкручивался без проблем. А их и не было почти, потому что не спрашивали. На поднятую руку учителя реагировали требованием дневника, ставили пятерку, – и ваш покорный слуга скучал дальше, пока урок не дойдет до нового материала. Обхохочешья. Жизнь вообще трагикомичный жанр. А тогда мне стало грустно. Во мне тоже взбухнули чувства. У матери была парадоксальная, как сказали бы сейчас, реакция на стресс, а у меня прямая.
— Тебе ж костюм новый понадобится! Не пустит тебя отец! Позориться на всю Москву!
— Я ж полы мою!…
Мать работала уборщицей и, естественно, мы с сестрой Валей, которая давно безбедно живет в Москве и которая больше всех всегда осуждала наших родителей, до того, что мы с ней даже поссорились и много лет не общались, пока не примирила своей смертью мать, орудовали швабрами наряду с ней.
— А есть просишь?!…
На это возразить было нечего. Точнее, не нашлось, детских мозгов не хватило. Много лет спустя, перебирая в уме ту сцену, я многажды жалел, что не возразил. Сейчас я точно знаю, что, начиная с десятилетнего возраста я кормил себя сам. Отцу я высказать не успел, а маме однажды высказал. Очень корректно, просто задал мучивший меня, уже сорокалетнего человека, вопрос:
— Мама, почему вы с отцом нас не защищали? Любой убогий был вам дороже нас! Ведь мы ж дети были! Кому мы были нужны? Почему у нас постоянно чужие люди толклись и отрывали необходимое? Почему вы не для нас жили, если родили на свет?
Ничего мама не ответила. Молча взяла пальто и вышла на улицу. Дело было на моей даче в Калуге, она ушла подальше, села под сливой на лавочку и завыла. Тонко-тонко завыла, сдерживаясь, чтобы не услышали соседи или я, а у меня этот фальцетный вой до сих пор в ушах звенит. От этого можно было умереть на месте. Семидесятилетняя мать, смертельно обиженная мной, выла, как раненная собака, чтобы не дать выход слезам. Больше я никогда не говорил ей ничего плохого. И братьям-сестрам наказывал говорить матери только хорошее. Мол, сыром по маслу катались, спасибо, мам…Чего уж!… Нечего надрыв лелеять.
Вернувшись в дом, она все время отворачивала лицо.
— Мама! В чем дело? – допытывался я.
— Да так, ни в чем, — отвечала она, пытаясь улыбаться.
Думаете, она раскаивалась? Не знаете вы мою мать! Более упертую женщину еще поискать надо! Натренировалась на воротке. Тогда, в девяносто восьмом году, она жила у меня почти год, потому что ослепла и ей делали серию операций, оказавшихся очень удачными, она стала видеть лучше меня. В Казахстане, кому оперировали катаракту, все глаз лишились, в том числе трое знакомых моей матери. Прощаясь, я дал ей несколько сот долларов, чтобы она могла погасить задолженность по коммуналке. Ей угрожало отключение от отопления. Любой может догадаться, куда она дела эти деньги, если беда была кругом в Ереме нашей. Сама всю зиму сидела без тепла, топила печку чем ни попадя. Добродейкой и умерла. Доживая у сестры Любы, всю пенсию раздавала людям, которые – сестра просто выходила из себя – того не заслуживали! Еще и из нас вытягивала, что могла, и мы посылали, в том числе Валя, прекрасно зная, что львиная доля тут же уйдет налево. Перезванивались: кого нынче кормим? Тюрьму или алкашей? Люба была права, я знаю, зная этих людей. Была ли права мать? Не знаю. Вообще-то, конечно, должна быть какая-то одна правда.
…Рылова рыдала, а мы стояли красные. У меня красное лицо, у матери красные от стирки руки. Лицо у нее было породистое, с правильными чертами и никогда не краснело, а вот мы не задались, плебеи. Зато, слава Богу, не коммунисты и не православные, Бог миловал от напасти такой. Что это такое было вообще, — думаю я? Избранничество или наказание за грехи предков неведомых? Может быть, среди ее пращуров, промышлявших в Диком поле, то бишь Новороссии, какой-нибудь невероятный стяжатель или убийца был, и она его у Сатаны выкупала? Добро, – договор с Сатаной?!… На маму никакие разумные аргументы не воздействовали, она по своей колее шла, как виртуально привязанная лошадь! Вон, посмотри, трава зеленая кругом, иди, радуйся жизни! Нет, я должна вороток крутить, там люди в шахте…! Мне кажется, там, на калужской даче, в ней лошадь выла от безысходности.
Рылова рыдала, а моя мать уже тянулась к радиоприемнику, я с ужасом догадывался, зачем. За висевшим на стене приемником мать прятала самую крайнюю заначку. Такую, что если только война или смерть самого близкого человека. Мы все знали, что она там лежит на черный день, никто никогда не покушался на нее, священную десятку, но я решил, что теперь имею на нее право. На новый костюм хватит, мелочь разве что добавить на костюм. И я в Москве, считай! Красная десятка была почти невидима в красной руке матери, но Рылова ее тотчас углядела и ухватила.
— Лучше бы купила мне костюм! – крикнул я в отчаянии, — Она все равно пропьет!
Вместо ответа мать взяла из стопки отжатого белья лежавшую сверху тряпку и наотмашь стеганула меня по лицу.
— В Москву… Разгонять тоску! Обойдешься!
Не знаю, какого цвета была та тряпка, по глазам вдарила, как черная. Мать могла и дешевыми трусами залепить, всегда черными.
…Когда пришел в школу, Татьяна Васильевна все еще была там и все еще сияла.
— Не поеду я в Москву вашу! – выкрикнул я почти с порога.
— Почему?! – оторопела директриса.
— Не хочу!
В душе сверкнуло какое-то злорадное наслаждение от вида ее перекошенного лица. Зло породило зло, а в начале всей цепочки стояло добро.
Вообще, наверно, Будда прав: ни добра нет, ни зла, есть умеренность и неумеренность.
10.
Когда провожали маму 31 марта 2014 года, процессия растянулась на километр. Обычно людей, в таком возрасте умерших, почти девяносто, никто, кроме близких родственников не провожает. Откуда и люди взялись в опустевшем городе нашем, который уже готовят перевести в село? Погода стояла тяжелая: тучи, поземка, пронизывающий сырой ветер. Перед выносом тела вдруг вышло солнце, в окно уверенно вошел луч и прицельно осветил лицо, которое вдруг показалось живым. Приветствовали ее или простили, отпустив чужие грехи? Не знаю. Кстати, за три дня, пока покойница лежала в доме, как люди не принюхивались, никто не уловил ни малейшего запаха тления. Несколько часов, пока длились похороны, стояла прекрасная весна, а к вечеру опять задуло, затянуло, заморосило…
На поминках случился нелепый казус. В Казахстане до сих пор продают населению спирт, как у нас в девяностых. Очень высококачественный спирт из чистого зерна твердых пшениц, там другие не растут. Его закупили вместе с водкой, — для копачей, долбивших мерзлую землю на пронизывающем ветру. Вино там сейчас бесполезно и искать, бурда крашенная и жутко вредная. Копачи просили спирт – вот и купили с запасом. Несколько бутылок спирта по ошибке вместе с водкой отвезли в столовую. А там, не взглянув на этикетки, разлили именно спирт и расставили на столы. Я смутно помню, что, сказав спич, старательно, проникновенно, что-то о сердце поверх рубашки, проглотил стопку – и замер… Ничего не соображаю, в глазах одни открытые красные рты… Все хлебнули вслед за мной и забронзовели… Племянница Аня бегает вокруг меня и кричит:
— Воды дяде Вите! Скорей воды!…
Спирта я в жизни много выпил, в экспедициях особенно… Для экстремальных ситуаций нет напитка лучше, правы копачи. Но к его приемке готовиться надо, горло прокашлять, дыхание как следует задержать, а тут с маху. До сих пор удивляюсь, что ни одна старушка не умерла там на месте. Серьезные ощущения. Мама не то что не увлекалась спиртным, она за всю жизнь не выпила даже стакана сухого вина. А проводили ее так крепко, как никого. Не зря всю жизнь пьяниц жалела. С душой проспиртованной к Богу своему явится. А может, оно и к месту? Говорят, этот Бог тот еще Бог… Тоже пьяниц жалеет. Море для них по колено осушает.
Хотите верьте, хотите нет, но не могу не рассказать. Я собирался на заседание кафедры, но оделся раньше, чем следовало. Минут десять надо было побыть дома в костюме. Топят в Питере хорошо, мне стало душно. Открыл форточку, и почти сразу, — я еще стоял посреди комнаты, — влетела огромная черная бабочка. Преогромная, в полладони, я таких только в Южной Америке видел! Облетела вокруг моей головы и вылетела, тяжело помавая крылами! Откуда?!… Март холоднющий, на улице снег! Уехал в институт с тяжелыми мыслями, а вечером позвонила сестра: у мамы днем случился инсульт. Отходила недолго, неделю, особо не мучилась и все время была в сознании, хотя инсульт был тяжелый, паралитический. Перед смертью произнесла загадочную фразу, глядя на меня:
— Один историю не поднимет!
Странную, потому что она всегда была далека от подобных глобальных проблем. В суете сует проколотилась рыбой об лед мама моя Хорошаева Матрена Устиновна. Можно так жить, или нельзя? Где ответ? Нет ответа. Но не Порошенко отвечать на этот вопрос, не его это уровень, хоть и президент.

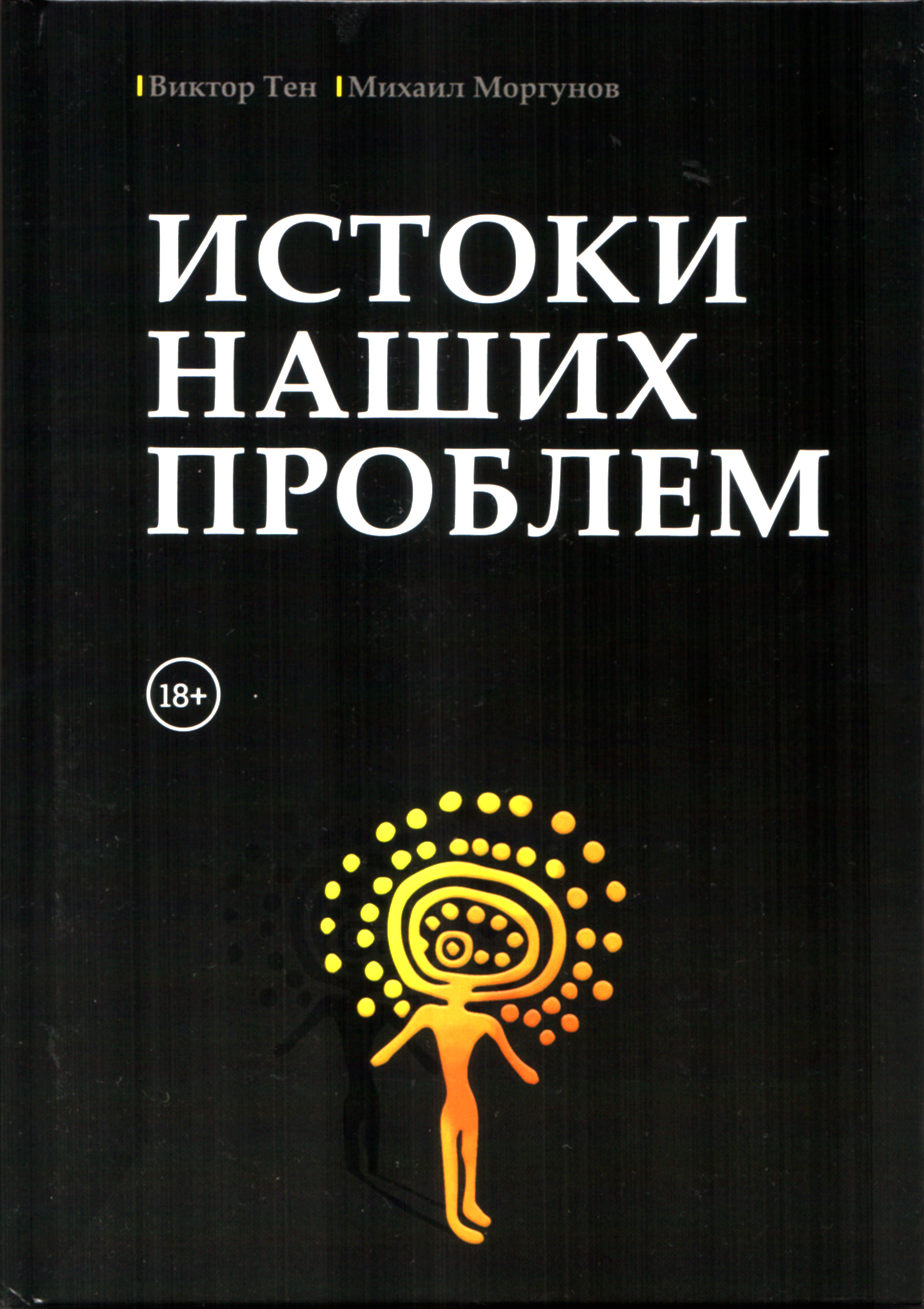


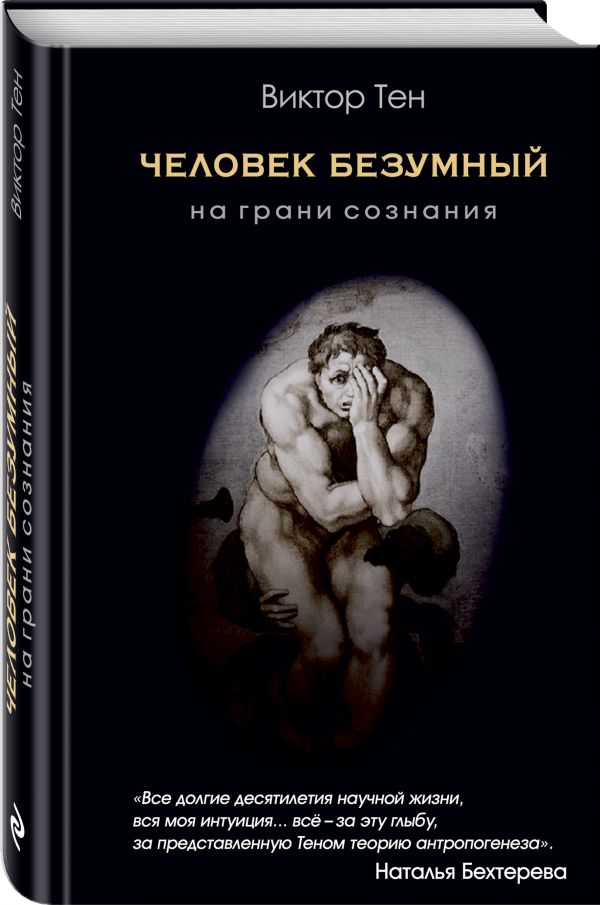
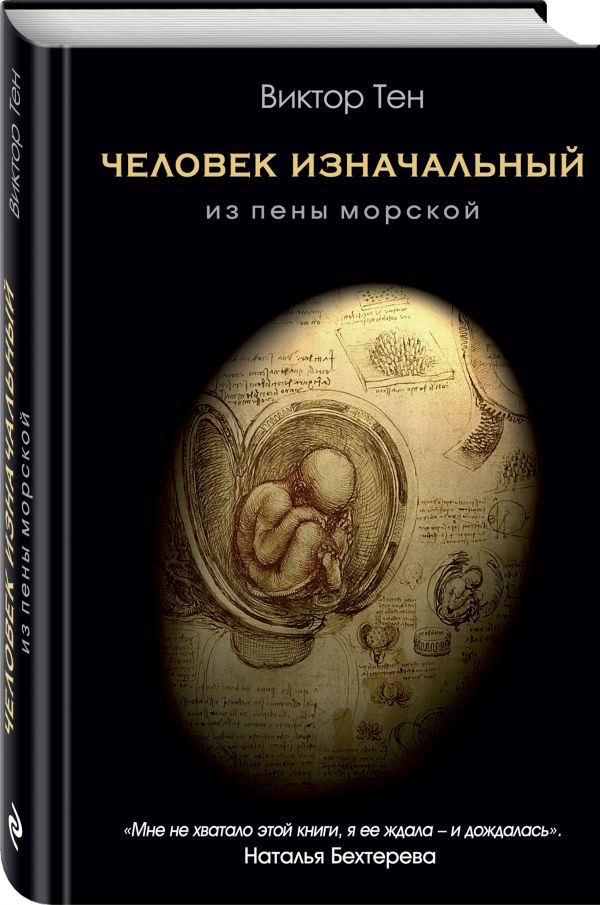
Виктор! Вы замечательный писатель. И пишите, в принципе, правильные вещи. Что мне приходит на память, читая Ваши строки? Не поверите. Я вспоминаю исповедь старой немки, которую слушал на протяжении многих вечеров, когда был в Германии по обмену. Она мне рассказывала про своего отца. Отец ее был старый квалифицированный рабочий и убежденный нацист. Знаете, такой вот нацист-интернационалист. В начале 1930-х он активно участвовал в кружечном сборе денег для жителей российского Поволжья, у которых коммунисты конфисковывали хлеб, обрекая их на голодную смерть. Так вот, этот замечательный человек прожил очень интересную жизнь. Он был многим похож на Вашего отца. Своей верой в чистые идеалы, например. И погиб, когда все дело его жизни пошло под откос. Да, главной причиной его гибели стало жизненное фиаско. Он всю жизнь строил большой просторный дом для своей семьи. Простой германский рабочий, убежденный член Национал-социалистической рабочей партии Германии. А Красная Армия лишила его дома. И всего, что удалось нажить ему для своей семьи. И страна рушилась в небытие. Геноцид немецкого населения в Восточной Германии, грабежи, изнасилования, убийства. Рушилось все, ради чего он жил. А дальше — сердечный приступ… К чему это я…. У любой идеологии есть масса честных приверженцев. но разве отменяет это того обстоятельства, что идеологии могут вести к массовым убийствам, к нетерпимости? Отнюдь. Как не отменяет и того обстоятельства, что коммунизм дал жителям Земли на порядок больше убитых и замученных жертв, чем нацизм. Скажете, что коммунизм нельзя запретить? Увы. Как нельзя запретить преступность вообще. Но это не означает, что с преступностью не надо бороться…
Есть разница. Коммунизм — это будущее, это бесспорно, спорны пути. Нацизм — это прошлое. Огромное различие в методах. Коммунисты чудовища не по призванию, а по обстоятельствам. Геноцид по национальному признаку — это не их метод, просто массы людей могут подпасть под чистку ради светлого будущего. Они никогда никого не объявляли «недочеловеками». Это совсем другое, чем уничтожение только потому, что ты другой крови. Насчет количества жертв спорно. Нацизм только во 2 мировой унес миллионов 80, коммунизм отдыхает. Коммунизм следует сравнивать с религией, а не с нацизмом. Инквизиция тоже унесла миллионы жизней ради идеи Христа, но это не было идейным геноцидом. Вот и запретите ее, религию, сравняв с преступлением. Вы следуете современному западному тренду сравнения коммунизма с нацизмом, а это логически порочное сравнение, нелепое и не имеющее общего основания, кроме «много жертв», но наука количественные основания не приемлет. Качественно это разные явления абсолютно, даже противоположные. Вот с религией можно сравнивать, это логично.
истинно!!!
Уважаемый В.В. Тен! Ваши антропологические идеи и концепция необычайно интересны. Если подтвердятся/утвердятся фактологией — эпохальны. Будут эпохальны. Ваши воспоминания выше поразительно искренни, выпуклы, понятно написаны (хотя отредактировать еще не мешало бы). Правда я, родившийся в тех же «ссыльных» карлаговских местах раньше вас, не соглашусь кое в чем с Вашей фактологией (покупка рыбы как знак социального статуса, и пр.). Ваша полу-апология «коммунизма» в ответе Владимиру в 2015 году, однако, к сожалению невнятна с чисто рациональной точки, увы. «Спорны пути» к коммунизму — помилуйте, — а есть не «спорные», не приводящие к сборке АК-47, независимо — кто собирал, шел этими «путями»?! Вы же ученый: частные случаи «за» и «против» не имеют отношения к «идеям», к конструктам рациональной мысли и языка, к сумме фактов!
Как здорово вы все написали… Читала и все мои вопросы — отношение моей мамы ко мне и отношение к другим (всех. всех она любила больше меня. всем помогала больше. понимала и жалела) — как перед глазами. И ответы. которые я нашла кажется там же где вы — православие. коммунизм и наша русскость, как продолжение этого вот родового. корневого. главного — что ощущаю в себе и детях сейчас. как основу? опору? — то. что есть как суть? Наверное.
Моя мама не была как-то уж особенно верующей ни внешне. ни внутренне (хотя ее родители. бабушка и дедушка фактически всю жизнь страдали из-за глубочайшей веры и абсолютного отказа писать в анкетах. что неверующие. всегда имея самую низкооплачиваемую. самую тяжелую и неквалифицированную работу ) — читая. узнавала ее в вашем описании. Как узнавала и в другой бабушке, по отцу, истовой коммунистке с 2021 года. Как узнавала в деде. ее муже. самом родном моем неродном дедушке на свете. который прожил с ней 45 лет. будучи атеистом и антикоммунистом ( как они уживались? да в огромной любви с его стороны- легко!) — добрейшем предобрейшем язвеннике и матершиннике. Который не мог быть в ссоре с маленькой девочкой. мной, больше часа и приходил всегда первый с ней мириться. А когда умер все 3 дня гроб пах не тленом. а цветами.
Ваше…воспоминание — оно как молитва. как вычитка от одержимости дьяволом. вроде как есть такая в хзристианстве. как очищение. Она… раскачивает и поднимает… как на качелях? не знаю — над миром. И все становится правильно. прекрасно. высоко и счастливо. Как оно и есть на самом деле. Спасибо.
Спасибо вам.
Я понимаю. почему именно вы сделали такие открытия и пишете такие великолепные книги. Чтобы вместить мир — надо иметь душу как минимум равную миру. Но вообще-то больше.