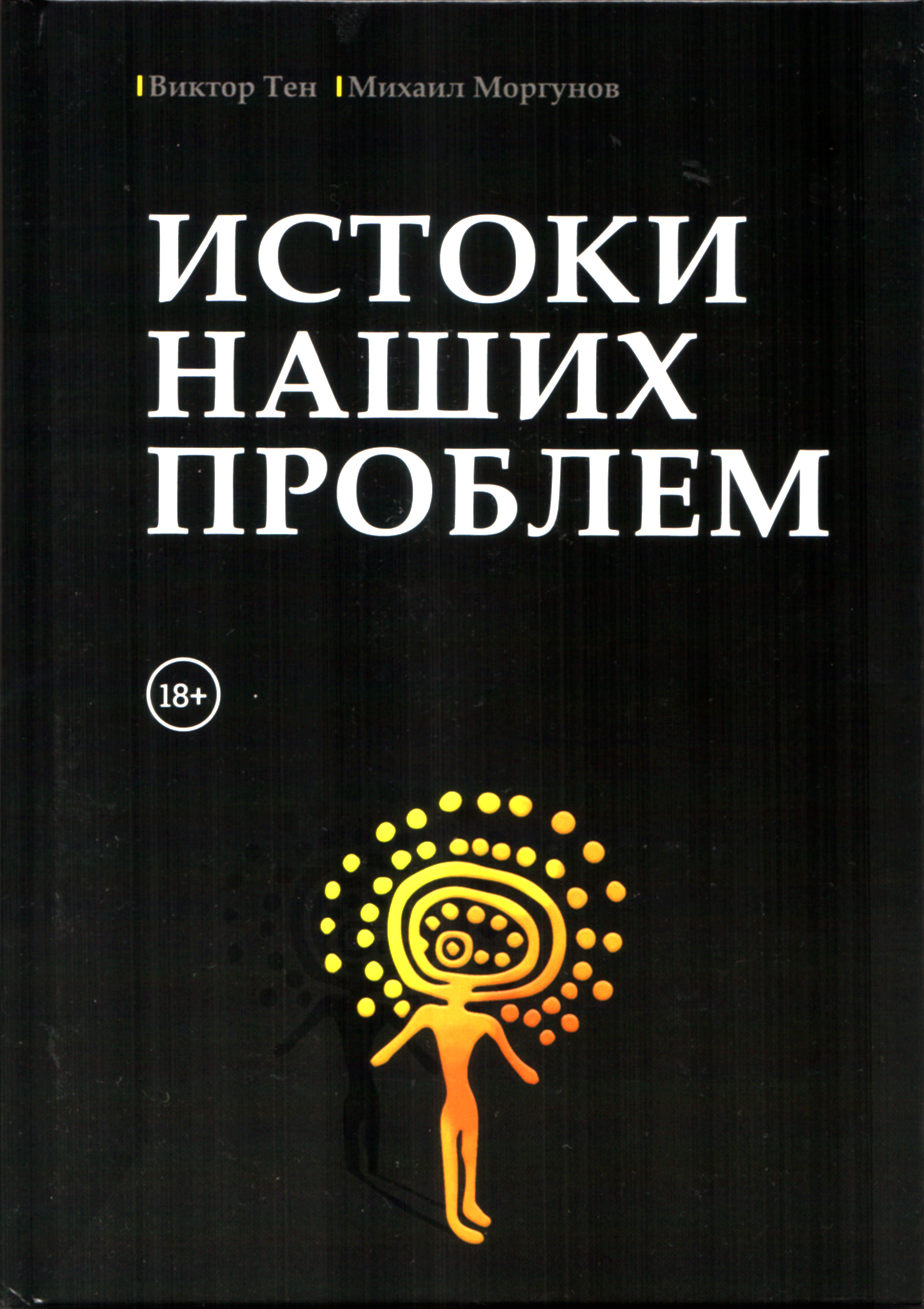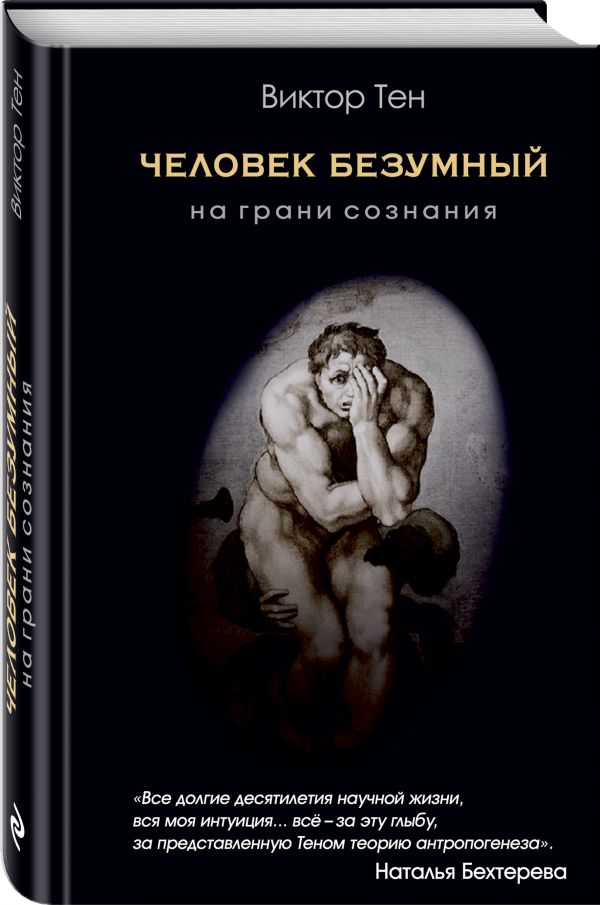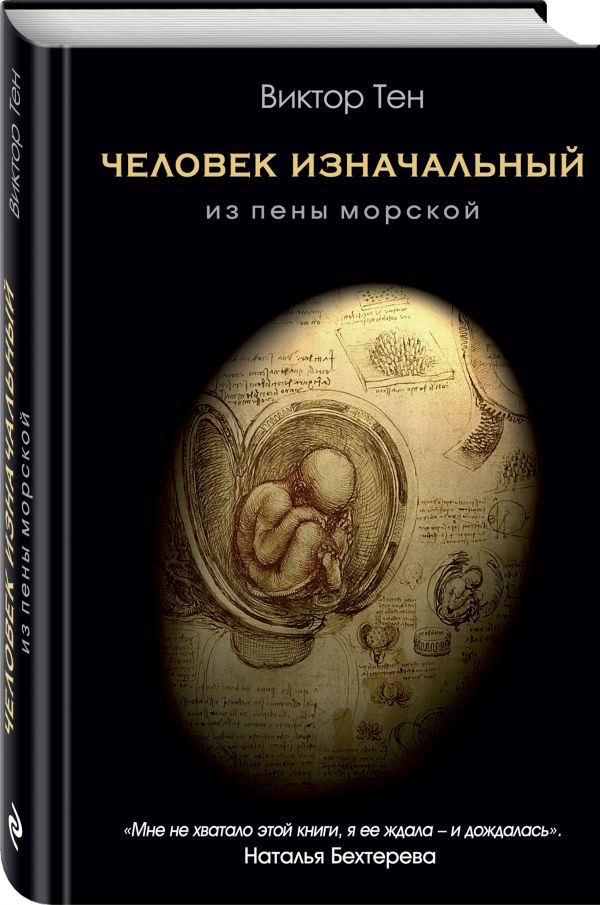Публичная лекция 14.12.17 в здании Оптического института им.Вавилова РАН
Прежде, чем говорить о языке, именно о естественном человеческом языке, мы должны дать ему определение. Возьмём общепринятое определение, из лингвистической энциклопедии: это система знаков, являющихся орудием общения. Это определение по правилам логики, т.е. через род и видовое отличие. Род, это более широкое понятие, в данном случае «знак», видовое отличие – функция коммуникации. Первой вызывает вопросы она. Вы сидите и мечтаете, во сне говорите и это не коммуникация. Выходит, что определение недостаточно. А вот род понятий, в который входит язык согласно данному определению, для начала примем: понятие знак шире, чем язык. От него и будем плясать. Разумеется, мы будем говорить о звуковых знаках, начертательные к нашей теме отношения не имеют: люди вначале научились говорить, а потом уже писать.
Содержанием знака является значение, а значение, как писал академик Леонтьев, «есть реальная психологическая единица сознания». Это не собственное мнение Леонтьева, это ещё от Выготского, да и до него это было, просто Леонтьев выразил кратко и ясно некое общее место, которое до сих пор никто не оспаривал. Все лингвисты, все психолингвисты топчутся на нём до сих пор и не собираются расставаться. Т.о., человеческий язык можно определить, как систему значений, выражаемых фонетически, морфологически, синтаксически. Вот я сейчас выражаю значения через фоны, слоги, предложения: говорю. Могу говорить беззвучно, про себя. «Значение есть единица сознания» — это догма, которая выпячивается всюду, преподаётся везде и кажется неопровержимой. Одновременно лингвисты, психолингвисты вам скажут, что значение есть единица языка. И это кажется само собой разумеющимся, потому что говоря, мы выражаем значения. С тем, что у сознания и человеческого языка должна быть одна общая первичная универсалия, одна единица, я согласен, но значение ли это?
Обратимся к теории систем, потому что и язык и сознание суть системы, бессистемное сознание – это шизофрения, бессистемный язык – это шизофренический бред. Однажды у меня разгорелся спор по Интернету с одним очень авторитетным учёным, членкором, доктором философских наук, председателем диссертационного совета РГПУ им.Герцена Алисой Петровной Валицкой, которую я очень уважаю. Она написала мне, будто теория систем, «как известно» — она употребила именно это выражение, — «ещё не создана». По-моему, она создана и не столь сложна, как кажется. Т.н. «системный подход» в одно время был одной из самых обсуждаемых тем, было много авторов и до сих пор ломают копья. Безрезультатно, потому что путают два вида систем – конечные и бесконечные. Проблема упирается в универсалии, в примитивы, в единицы систем. Найдешь единицу – выстроишь систему, как пазл. Поэтому и запутались с такими системами, как сознание, общество, язык, у которых так и не нашли единиц, первокирпичиков. Сторонники системного подхода пытались представить его этаким методологическим абсолютом и противопоставляли в таком качестве диалектике, поэтому и обломались, потому что без диалектики можно выстраивать только конечные системы. Признанным корифеем абсолютизации «системного подхода» являлся профессор Каган из Санкт-Петербургского университета, тогда Ленинградского. На мой взгляд, с конечными системами вообще нет проблем. В каждой можно найти универсалию, единицу, лежащую в основе. Возьмём, например, систему Мировой Океан. Она состоит из океанов, морей, рек, озёр, луж и т.д. Но мы не можем определить её как систему луж. Куда мы денем в таком случае вот эту воду в стакане? А дождь? Это всё входит в систему Мировой океан. Молекула Н2О – вот ответ. Это и есть первичный элемент, ход в любую сторону даст уже другую систему. Или система «тело». Здесь первичный элемент – это клетка. Уменьшение основания даст то, что остаётся от тела после разложения, т.е. разные молекулы, увеличение до понятия «орган» лишает элемент универсальности, потому что органы все разные. Сложность заключается в определении бесконечных систем, но она решена Гегелем в «Науке логики». Диалектика является подлинной теорией бесконечных систем. Дело в том, что в бесконечных системах первичная универсалия является вместилищем всего, что есть в системе, микрокосмом. Это сама система «в себе», свёрнутая, но вся целиком и она, эта универсалия, столь же бесконечна как Макрокосм. В гегелевском «чистом бытии», с которого он начинает диалектику содержится всё. Не будем в это вдаваться, посмотрим на более простом примере. Первичной единицей системы «общество» является личность. Личность – это общественное определение человека и в ней содержится всё общество «в себе». Личность коррелируется именно с обществом, без общества нет личности, без личности нет общества. Личность так же бесконечна в своих проявлениях, как общество, в зависимости от ситуации. Один человек в одних условиях может быть героем, в других – преступником.
А теперь давайте посмотрим на связь понятий «значение» и сознание, «значение и язык». Так ли они неразрывны? Разве в мире животных, у которых нет сознания и нет языка, нет значений? Есть и даже в большей степени, чем в мире людей. Тезис, будто значение – это единица сознания отсекает животных, у которых нет сознания. Но, позвольте, а знаковое поведение у животных есть? Несомненно. Все эти угрожающие позы, которые позволяют избегать конфликтов, это знаки. Брачные игры наполнены знаками. Более того, в мире животных присутствует обман, а он возможен только через знак. Когда крокодил прикидывается бревном, он даёт знак, будто он безопасен. Когда птичка прикидывается раненой и уводит от гнезда, она даёт знак, что её можно легко поймать. Но ведь содержанием знака является значение. Знак – это единство идеального и материального, значения и выражения. Сущность знака – значение, форма – выражение, способ его презентации. Невозможно признавать знаковое поведение у животных и отрицать значение в нём. Скажу больше: в стадах и стаях животных и птиц всё наполнено значениями, всё их поведение является знаковым. В волчьей стае имеет значение каждый звук и каждая поза. Парадоксально, но больше всего значений в таких обществах людей, где люди низведены по полуживотного существования, например, в тюрьме. Какое имеет значение, как я сижу здесь перед вами, откинувшись на спинку стула, или строго прямо, или с наклоном вперёд? Никакого. А среди зеков на вольную позу можно жизнью поплатиться. Потому что она имеет значение. Все слова, все интонации, все взгляды имеют огромное значение. Если ты не «фильтруешь базар», долго не протянешь среди этих людей.
Поэтому не так-то просто с такой системой, как язык. Определить человеческий язык как знаковую систему, подлинной психологической единицей которой является значение, — это значит ничего не сказать о его специфике, никаких отличий от коммуникаций животных здесь нет. Но именно так его и определяют, как правило, поэтому я говорю: определения языка нет до сих пор.
К дефиниции языка надо подходить по-гегелевски, т.е. через жизнь этого предмета, а прежде мы должны вычленить предмет, о котором будем говорить, отграничить его от других, смежных, т.е. произвести то, что Гуссерль, называл «феноменологической редукцией».
Необходимо различать «происхождение языка» и «порождение речи». Эти понятия часто путают, думая, что проблема происхождения языка заключается в объяснении процесса, как слово рождается в недрах мозга и оказывается во рту, готовое для произнесения, полагая при этом, что всё может объяснить психолингвистика, которая настолько запуталась в своих объяснениях, что, пережив бурный всплеск в 50-70-е годы, к настоящему времени превратилась почти что в лженауку. До сих пор не решён даже вопрос, который поставили русские лингвисты ещё сто лет назад, в частности, Потебня: что происходит в мозге в процессе порождения речи: сгущение или разложение? Сейчас это именуется иностранными словами, но от этого не стало не умнее. Все психолингвистические модели, как импульсы ползут или бегут от нейрона к нейрону, переползают с синапса на синапс не стоят бумаги, на которых изложены. Их множество наплодили в период психолингвистического бума, в Питере в том числе (модель Черниговской-Деглина). Согласно этим моделям получается, что человек должен учиться языку с момента рождения сто лет без перерывов на сон. Ошибочным был общий подход: считалось, будто речь порождается по аналогии с реакциями, свойственными сенсомоторным функциям мозга, когда афферентация, эфферентация, синаптические задержки и т.д. Сейчас мы знаем, что ассоциативные области коры мозга обладают невероятным быстродействием, функционируют по принципу зеркала.
Различие между происхождением языка и порождением речи заключается в том, что первое – это филогенез, второе – онтогенез. Первое – это вопрос о том, как род человеческий, начав с нечленораздельных звуков, издававшихся ещё животными предками, обрёл членораздельную осмысленную речь. Второе – это вопрос о том, как в мозге уже человека рождается слово. Первое – это тема антропологии, второе – анатомии, физиологии и только на завершающем этапе – психологии и лингвистики.
Мы будем говорить, в основном, о происхождении языка, касаясь порождения речи по мере необходимости. Главное скажу сразу. Анатомия и физиология порождения речи является ярким подтверждением инверсионной теории происхождения Homo sapiens, которую я обосновываю. Дело в том, что импульсы, порождающие звуки животных, возникают в лимбической системе мозга, которая представляет собой кольцеобразную структуру, расположенную вокруг ствола (таламус, гипоталамус, гиппокамп, старейшие подкорковые части и др.). Она участвует в регуляции внутренних органов, обоняния, автоматике организма, и, главное, эмоций. Человеческая речь порождается в конечном мозге, в структурах коры. По сути дела, в анатомо-физиологическим смысле проблема происхождения естественного человеческого языка сводится к объяснению того, как и почему произошёл этот переход, эта эскалация из нижележащих зон в неокортекс? Объяснение, будто это могло происходить мало-помалу, потому что неокортекс является более развитой структурой и потому больше подходит для локализации знаковых систем, не подходит. У всех высших млекопитающих тоже есть кора, но на протяжении десятков миллионов лет никакого перехода не происходит. Звуки высших млекопитающих, включая ближайших родичей человека, равно как и звуки земноводных, пресмыкающихся, яйцекладущих и прочих порождаются в качестве импульсов в лимбической системе, в подкорке. Должен был быть какой-то взрыв, какой-то огромной силы стресс, нарушивший логику развития «мало-помалу». Поскольку мышление и речь настолько взаимообусловлены, что рассматриваются вообще как двуединый феномен, это был тот самый взрыв сознания, о котором мы говорили раньше, когда произошёл слом системы рефлексов и возникло сознание вначале в форме безумия, шизофрении и такого её симптома, как аутизм.
В том, что виной всему был эволюционный стресс, нас убеждают факты наблюдений над людьми, потерявшими речь по разным причинам, например, вследствие ужасного испуга. В таком случае речь возвращается вследствие сильного стресса, вспомним прекрасный фильм «Мужики». Мальчик мог издавать звуки, но не лучше, чем бессловесное животное, звукопроизводство на уровне лимбической системы. Сильный стресс заставил его заговорить, причём, сразу хорошо заговорить, т.е. произошёл внутренний прорыв. Ещё один интересный факт связан с амнезией. У забывания тоже есть своя логика и она такова: первыми забываются недавние события, более отдалённые гораздо дольше сохраняются в памяти. Старушка может прекрасно помнить то, что было на заре её туманной юности, но вспомнить, выпила ли она таблетку от давления три минуты назад, не может. Она может погибнуть от этого, это бывает: выпивает ещё одну таблетку – и у неё ишемический инсульт. В случае прогрессирующей амнезии постепенно забываются слова и последние, которые остаются – это междометия и, представьте себе, ругательства. Дело в том, что эти две лексические группы порождаются в лимбической системе, которая, напомню, отвечает за эмоции. Особенно интересен момент с ругательствами. На прошлом занятии мы говорили о том, что, когда появилось сознание, пресапиенсы едва не перебили друг друга. Был продолжительный «период раскалывания черепов», период массовой внутристадной агрессии, которая необъяснима с точки зрения этологии и бихевиоризма, нормальные стадные животные относятся другу к другу бережно, стадный инстинкт предохраняет их от нанесения вреда члену своей стаи. Возможно, первыми словами человеческого языка стали именно ругательства, именно звуки, вырывавшиеся в момент раскалывания черепов родственников булыжниками, которые прекраснодушное современное человечество наивно считает орудиями труда, именно эти грязные слова и стали теми «горячими парами языка», которые первыми «прорвались вверх», из лимбической системы в неокортекс, положив начало естественному человеческому языку.
Расскажу случай из собственных наблюдений. Моя мать была отзывчивая женщина, поэтому её часто использовали другие женщины как «жилетку». Одна её знакомая стала часто заходить, когда у её мужа диагностировали рак с метастазами в головной мозг. Плакала, потом уже смирилась с неизбежной потерей мужа, но потом стала снова рыдать и жаловаться, потому что муж начал материть её по-чёрному. Она за ним заботливо ухаживала, а он её материл. «Кто бы мог подумать, — плакалась тётя Лиля, — что он меня так ненавидит! Ведь жили душа в душу!». Перед смертью её муж не говорил никаких слов, кроме матерных. Представляете трагедию этой женщины? Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, мог бы её успокоить. Скорее всего, её муж потерял все слова, кроме ругательных, это явление называется копролалия, буквально «говноговорение», встречается в случаях амнезии, это целое явление в психологии. Возможно, её муж перед смертью хотел проститься с женой, пытался сказать хорошее, доброе, вечное, но выходил только мат, идущий от лимбической системы, где коренятся эмоции, тогда как корковые структуры языка уже атрофировались. Этот личный кошмар и трагедия напоминают наш социальный кошмар в связи с Украиной, где наблюдается амнезия исторической памяти и несётся одна копролалия, а мы и не подозревали, что они нас так ненавидят, всегда жили, как в одной семье.
Переходим к филогенезу, т.е. к происхождению языка. Научно этот исторический процесс называется «глоттогенез», буквальный перевод «генезис языка». Естественно, начнём с животных. Изучение знаковых коммуникативных систем животных с целью решения проблемы происхождения человеческого языка началось давно. Наиболее пристальным вниманием со стороны ученых пользовались, как следовало ожидать, т.н. «социальные» животные (пчелы, муравьи, термиты) и приматы.
Этот интерес был тенденциозным, обусловленным желанием вывести отсюда человеческий язык. После крушения психологии сознания в начале 20в. и торжества психологии поведения (бихевиоризма) началась успешная атака на позиции ученых, утверждавших исключительность человека. Напомню, что после открытия Сеченовым рефлекса в 19в. наступил период энтузиазма по поводу, что найден исток сознания, но потом наступило отрезвление, в результате чего Бехтерев заявил, что в объективной психологии, т.е. в рефлексологии, нет места вопросам сознания, а Джемс вообще объявил сознание лжепроблемой. Исток сознания виделся уже не в рефлексах, а в усложняющемся поведении животных. Как и следовало ожидать, точно такой же подход восторжествовал в отношении проблемы глоттогенеза, т.е. происхождения языка, потому что сознание и язык связаны неразрывно. Американский лингвист Блумфилд в начале 20в. объявил глоттогенез лжепроблемой. Но он не просто это объявил, он сказал: проблему начала языка «решат бихевиористы». Отсюда взрыв интереса к поведению животных, который знаменовал собой появление новой науки – этологии, которую основал немецкий военнопленный Конрад Лоренц в сталинском лагере. В ужасном сталинском лагере он имел возможность и время вести наблюдения за животными на воле, ставить эксперименты, описывал всё это, а когда его отпустили домой вместе с тетрадями, он их опубликовал и стал основоположником новой науки. Сейчас много стенаний о судьбе немецких военнопленных, но мне интересно: имел ли хоть один советский военнопленный в Европе подобные условия?
Скажу о различии между этологией и бихевиоризмом, хотя их часто путают сами этологи и бихевиористы. Различие между ними, как между физикой и материализмом. Физика – это наука о материи, материализм – это идеология. Можно быть материалистом и при этом не физиком, а философом, литератором и т.д., можно быть физиком и при этом идеалистом. Джеральд Даррел, этолог, бихевиористом не является, он просто изучает поведение животных. А вот Тинберген – бихевиорист, который не просто изучает поведение животных, но и пытается отсюда вывести понятие о человеческом обществе, пишет будто «общество вырастает из клетки, как кожа» и получает за это премии вплоть до Нобеля, хотя, на мой взгляд, Даррел больше её заслуживает. По крайней мере, он не писал глупостей.
Бихевиористам и этологам удалось убедить почти все человечество в том, что никакой исключительности в людях нет. Наш интеллект и наш язык принципиально ничем не выделяются. В чем причина столь легкой и сокрушительной победы?
В бихевиоризме и этологии теории нет и на грош. В этом их сила и слабость одновременно. Они настолько убедительны, насколько хороший пример убедительней плохой теории, а теория – постдарвиновский симиализм (от simia — обезьяна) – была плохая. Этологи не мудрят, они идут в лес, живут с обезьянами, ставят видеокамеры в муравейники, метят пчел, сажают их в стеклянные ульи, а потом говорят: вот, пожалуйста, — налицо и язык, и общество в виде иерархических структур и рефлекторная способность к сложным поведенческим актам, например, к обману, что, по сути дела, равносильно разуму, а знаковое поведение – это язык, ничем не хуже человеческого. В самом деле, если под определения, принятые лингвистами, психологами, философами, психолингвистами, он подпадает, то чем же он хуже?! Налицо знаковая система, полная значений, используемая для коммуникации, — всё, как людей.
Своими «людоедскими» примерчиками эти экспериментщики мало-помалу уели теорию происхождения человека. Ту самую, которая со времен Фохта и Дарвина уверяла, будто мышление и речь появились «мало-помалу» в процессе выделения человека из животного мира. Все очень просто: на одно «мало-помалу» нашлось другое «потихоньку-понемногу». Дарвинисты «мало-помалу» доказывали факт выделения человека из природы, этологи «потихоньку-понемногу» отменили это «выделение». Это доказывает одно: неинверсионный, недиалектический подход к проблеме происхождения мышления и языка, любая степуляция, — теоретически несостоятельны.
Этологи и бихевиористы опровергли плохую теорию, правда, в подавляющем большинстве, не заметив этого, потому что большинство остаются симиалистами. Они продолжают изучать животных с заранее заданной целью: найти истоки мышления и языка и сделать тем самым сенсацию. Это говорит о том, что проблема остается открытой. Заверений, что шимпанзе или пчелы, — «они, как люди» недостаточно. Плохую теорию опровергли, новую не представили. Люди, даже те из них, кто про свою собаку говорит: «она умная, как человек», — все равно не верят бихевиористам и этологам в том, что человек принципиально не отличается от пса, а человеческое общество – от социума пчел. Нет, умиляться, глядя по телевизору, какие все эти хвостатые и крылатые умные, могут все, но все-таки свысока, с позиции своей исключительности.
Проблема глоттогенеза играет здесь ключевую роль. Сложность «социального поведения» пчел, термитов, муравьев, обезьян, волков не может убедить в наличии разума, будучи легко объяснима инстинктами. Вот если бы удалось обнаружить в животном мире язык – это сразу решило бы все проблемы. Язык и только он – бесспорное свидетельство разума.
Вот и посмотрим: как у животных начёт языка? Отличие естественного человеческого языка от языков муравьев и термитов состоит в том, что у последних «язык» химический. Они общаются, выделяя специфические сигнальные феромоны. Это интересно, но так общаются, как сейчас выяснилось, даже растения. С помощью химизма растения могут передавать информацию друг другу в двух модальностях: «плохо» и «хорошо». Во всяком случае, об этом говорят и пишут. Когда гвоздика убивает розу, помещенную в одну вазу с ней, — это общение растений, как ни крути. Доказательством этого общения является скоропостижная смерть розы.
С пчелами все обстоит не так просто. Интересные соображения приводит Дж.Гринберг. Он говорит о том, что, что в «языке» пчел нет наклонений, кроме повествования, референции. Доложенная информация не обсуждается, никто не задает вопросов, не возмущается, что далековато лететь, не переспрашивает.
Подробно разбирая знаковую нагруженность фигур танца пчел, круги и восьмерки, замедленность или ускоренность, Бенвенист отмечает главное: диалога нет, а значит с человеческим языком «нет никакой корреляции».
Стеклянный улей продемонстрировал, что у пчел отсутствует диалог между особями, идет всегда односторонняя передача информации раз и навсегда заданными фигурами танца.
Еще более важно, на мой взгляд, следующее: полностью отсутствует внутренний диалогизм речи, столь характерный для людей. Когда мы стараемся разъяснить кому-то дорогу, в которой много поворотов, мы всегда делаем упор именно на различия. «Дойдете до развилки, с одной стороны растет сосна, с другой – береза… Идите в сторону березы, а не сосны». В сигнальных кодах пчел нет подобных оппозиций. Пчела танцем покажет не реперы в их противоположении, а направление и расстояние. Насекомое, как ни странно, «выскажется» куда сложнее человека, речь которого по определению построена на смыслоразличительных оппозициях, весьма облегчающих понимание, а часто предопределяющих его. Например, когда мы говорим «идите вправо», мы подразумеваем, а собеседник понимает, что не надо ходить влево, куда тоже есть дорога. Мы одновременно не одно направление предлагаем, мы одновременно говорим, куда не надо идти: прямо или влево. Молчание об этом имеет не меньшее значение, чем речь о том, куда надо идти. Мы построили объяснение на смысловой оппозиции. Вспомним Трубецкого, который утверждал, что первичной единицей языка является не фонема, а оппозиция. Вот в чем главное, непреодолимое различие между человеческим языком и сигнальными кодами животных. Здесь я походя задел огромную дискуссию, возвращающую к началу лекции, а именно: что является первичной единицей языка? Было множество мнений, я их в своей книге «Происхождение языка» описал: фонема ( звук), морфема (слог)… Хомский заявил, что синтаксис первичен и возникло целое поколение генеративистов, уверяющих, что синтаксические конструкции являются врождёнными и они-то и есть первичные универсалии языка. Книги пишут под названием «Язык как инстинкт» (Пинкер, например). В противовес возникло поколение семантистов, которые первичной единицей считают значение…
Так вот, Трубецкой, глава Пражской школы, заявил, что первичной единицей языка является оппозиция, т.е. то, чего как бы нет, что материально не выражается. Это не знак, который всегда имеет материальное выражение. Т.о. мы уходим от определения человеческого языка, как знаковой системы. Это уже ближе к истине.
Сигнальные коды животных не могут быть амбивалентными, не могут быть более чем одновекторными, тогда как человеческий язык построен, как минимум, на основе бинарного кода. Каждое наше высказывание представляет собой сложнейший клубок разноуровневых оппозиций (на уровнях фонем, морфем, членов предложений, субъект-объектных отношений в предложении, тез и антитез в общем потоке речи) переплетающихся между собой. Речь человека диалогична «в-себе», даже вне диалога. Даже монолог, даже внутренняя речь диалогичны.
Еще одно важнейшее отличие пчёл от людей заключается в отсутствии у пчел коммуникативной креативности. Особенностью человеческого языка является способность людей производить и понимать слова и фразы, которые раньше никогда не встречались. У пчел есть несколько фраз, которые они, если можно так выразиться, перефразируют. Они не способны к бесконечным модуляциям, связанным с выходом за пределы рефлекторно знаемого. Их «язык» представляет собой закрытую систему, тогда как человеческий язык представляет собой открытую систему, способную на бесконечность. Пример графа Толстого показал, что не существует пределов, ограничивающих предложения. Какое длинное предложение мы не придумали бы, никто не сможет утверждать, что это самое длинное предложение русского языка. У пчел существуют зафиксированные пределы длительности.
Какое новое слово мы не придумали бы, никто не сможет утверждать, что это последний неологизм, «дальше ехать некуда». Языковые резонёры типа Вербицкой только этим и занимаются, но молодежь все равно «едет дальше». У пчел не может быть лингвистически распущенной молодежи: у них все «говорят» одно и то же из века в век, «неологизмов» не бывает.
Это три основных отличия человеческого языка от коммуникации пчел: 1) диалогизм, внутренний и внешний 2) системная открытость 3) знаковая креативность. Это кардинальные отличия в рамках теории коммуникаций, теории систем и семиотики.
«В применении к животному миру понятие языка используется только из-за смешения терминов», — пишет Бенвенист, считающий, что язык отсутствует «даже у высших животных». Поговорим о высших животных. О самом близком родиче человека поговорим.
Одна особенность шимпанзе просто не могла не обратить на себя внимание исследователей: усиленная жестикуляция и богатая мимика. Этим шимпанзе разительно отличается от всех животных, включая других антропоидов: горилл и орангутанов. Это именно та особенность, из-за которой всех нормальных людей тошнит, когда им говорят, что их предок был «шимпанзеподобен».
Подчеркиваю: жестово-мимическая экспрессия является физиологически эксклюзивом двух земных видов: человека и шимпанзе. Она отсутствует даже у других видов антропоидов: горилл, орангутанов.
Тем более ее нет у низших (хвостатых) обезьян. Что касается мелких хвостатых обезьян, то они просто подвижны, как бывают подвижны другие мелкие животные, с повышенной скоростью обмена веществ, например, ласки и хорьки. Избыточной жестикуляции у них не наблюдается. Например, мартышка в состоянии стресса не станет размахивать лапами, а шимпанзе будет. Мартышка в испуге сиганет куда повыше и будет пучить глазки. Шимпанзе может сделать то же самое, но при этом станет еще и размахивать руками, шлепать губами и т.д.
Я всегда говорил о некорректности всех примеров с человекообразными обезьянами. Они некорректны до тех пор, пока вопрос, кто от кого произошел, не будет решен окончательно. Тем не менее, целый ряд исследователей, сторонников происхождения языка из кинетической речи, считают богатую мимику шимпанзе, их отвратительное кривляние, источником языка.
Попробуем по-иному объяснить источник этой ожесточенной жестикуляции и ее психологическую составляющую: почему она вызывает стойкое неприятие у людей. На публичных лекциях, когда я рассказывал, что в строении человека заключены, по крайней мере, тридцать эксклюзивов, каждый из которых является опровержением «обезьяньей» теории происхождения человека, часто приходилось наблюдать со стороны слушателей реакцию психологической релаксации: слава Богу, что не от обезьяны! Он массовиден, — «синдром Лайеля», который был готов признать предком любое существо, только не обезъяну, из-за отвращения, которое она вызывает. А почему обезьяна вызывает отвращение? Уверяю вас, если б не наш ближайший родич, обезьяны не вызывали бы отвращения: нормальные животные и всё. Мартышка ничем не хуже маленькой вертлявой собачки, а она ведь не вызывает отвращение.
Источник «синдрома Лайеля» загадочен. Объяснением могла бы служить опасность, которую дикие обезьяны представляли для первобытных людей. Но никакой опасности от них не исходило, наоборот: люди массово поедали диких обезьян, о чем свидетельствуют горы черепов антропоидов на древнейших стоянках (например, Чжоукоудянь). В современной Африке шимпанзе поныне остаются лакомым блюдом. По идее, в человеке должен присутствовать архетип положительного восприятия обезьян, а не наоборот. Для «синдрома Лайеля» нет никаких исторических оснований, подобных тем, на которых зиждется традиционное отвращение к змеям: они представляли для людей реальную большую опасность. Заметим: сама шимпанзе внешне не отвратительна, будучи похожа на волосатого человека. Спокойно стоящий или сидящий шимпанзе даже красив. Отвратительны ожесточенная, сумбурная жестикуляция и мимика обезьян. Это на самом деле эксклюзив в природе, присущий только шимпанзе и… человеку. Да, человеку, но не каждому.
Усиленная, сумбурная жестикуляция и богатая шимпанзеподобная мимика характерны для людей, у которых развивается слабоумие. Ожесточенную жестикуляцию по типу обезьяньей мне приходилось наблюдать у обитателей одного из домов-интернатов для инвалидов-психохроников (заведение являлось открытым, а мой знакомый работал там директором, что давало мне возможности для наружного наблюдения). Забывая слова, больные люди усиленно использовали жесты и даже взмахи, мотание головами, а также движения лицевых мышц. Пытаясь самовыразиться, они гундели, жестикулировали, дергали головами, кривили лица, — и это, увы, было похоже на поведение шимпанзе.
В человеческом обществе эти люди социально обеспечиваются. Им регулярно приносят еду и подставляют горшок. Поэтому следующей стадией становится апатия. Люди становятся похожими на растения. Иное дело – оказаться в первобытном лесу, полном хищников. Жизнь здесь полна эмоций, апатии здесь не место. Прогрессирующее слабоумие в дикой природе будет сопровождаться усиленной жестикуляцией и мимикой.
Избыточная жестово-мимическая экспрессия является физиологическим эксклюзивом шимпанзе и особых категорий людей: психически больных и малоразвитых, чей звуковой язык дефективен или недостаточно развит.
Когда гоминидных предков шимпанзе наши предки, обитавшие на побережьях, загнали вглубь Африки, дефицит йода вызвал прогрессирующее слабоумие. Параллельно деформировалось тело в связи с недостатком витамина «Д», который содержится в морепродуктах. В итоге получился ряд гоминидов, развивавшихся по нисходящей, в конце которого стоит шимпанзе, чьи предки имели зачатки речи, в отличие от гоминидных предков горилл и орангов. Последние отделились от нашего общего древа раньше, когда языка еще не было в помине. Они избежали афазии, потому что им нечего было «забывать», как следствие, богатая мимика и сумбурная жестикуляция у них отсутствуют.
Мозги современных шимпанзе сформировались в результате медленного усыхания тканей, чему есть убедительные анатомические доказательства. Зоны Вернике и Брока, имевшиеся у их предков, не прослеживаются на эндокране, потому что эндокран шимпанзе аномально гладок. Это, если хотите, их эксклюзив, который не имеет эволюционного объяснения. Объяcнение может быть только инволюционное, а именно: происходило усыхание мозговой ткани. По-иному не могло быть, потому что, вследствие уменьшения ткани, отсутствовало давление мозга на внутреннюю поверхность черепа. Кстати сказать, усохшие останцы клеточных структур Вернике и Брока обнаружены непосредственно в мозговой ткани шимпанзе. Эволюционная афазия, — вот ответ на вопрос о причине такой эксклюзивной особенности шимпанзе, как сумбурная жестикуляция и богатая мимика. Отвращение к такому поведению в нас вызывает подкорковая эмоция, в которой сохранилась память о пережитом нашими предками ужасе эволюционного безумия.
Являются ли жесты и мимика обезьян источником языка? До сих пор никто не доказал, что за ними стоит что-нибудь, кроме выражения эмоций или сиюминутных желаний, т.е. что-то большее, чем в телодвижениях других животных. Хотя, если б было какое-то содержание, выходящее за пределы возможностей других животных, я бы не удивился: шимпанзе все-таки ближайший наш родственник и потомок гоминид, имевших зоны речи в мозгах. Но, увы: вкладываемая в жесты информация не имеет ни прошедшего, ни будущего времен, не говоря уже о таких временах человеческого языка, как «прошедшее в будущем», или «будущее в прошедшем». Человеческий язык не имел бы никакого смысла, если б посредством него нельзя было бы передать, что было, что будет, что может быть, — т.е. опыт и прогноз. Шимпанзе в природе не способна сложить фразу из нескольких мимических сигналов Она может мимикой и жестами выразить желание взять банан, может увлечь своим примером другую шимпанзе, но не может сказать другой обезьяне «пойдем завтра за бананами», ибо это подразумевает планирование. Можно выразиться даже проще: это подразумевает что-то.
Говоря о «языке» пчел, как самых развитых в смысле коммуникации «социальных» животных, мы сформулировали три основных отличия от человеческого языка: с точки зрения теории систем, семиотики и теории коммуникаций. Сравним пчёл с высшими млекопитающими и с шимпанзе
Развитие знаковой составляющей возможно у высших животных, это не закрытая система. Пчел дрессировать невозможно, а высших животных дрессируют. Основан этот вид деятельности человека именно на семиотической открытости коммуникаций высших животных. Отличие от человека, от такой деятельности, как образование, заключается в том, что дрессура представляет собой развитие животного в одной плоскости, тогда как образование подразумевает прежде всего развитие ума. Дрессированное животное не становится более умным, чем уличное, или дикое. Наоборот, уличные собаки часто демонстрируют большую сообразительность, чем домашние.
«Одноплоскостность», отсутствие вектора развития определяет тот факт, что даже самые «умные» животные ограничены в восприятии новых знаков. Максимальное их количество исчисляется десятками, тогда как человеку в семиотическом развитии дана бесконечность. Если отличие семиотических систем пчел от семиотической системы человеческого языка заключается в закрытости и открытости, то различие между высшими животными и человеком по данному критерию, — это различие между ограниченностью и бесконечностью.
В рамках теории коммуникаций отличие в следующем. У пчел нет диалогизма речи, как внутренней, так и внешней. У высших животных внешний диалогизм, как мне кажется, присутствует. Кто бы что ни говорил, но, когда я выгуливаю собаку, а она знакомится с другими псами на улице, я, терпеливо взирая на эту довольно длительную процедуру взаимных обнюхиваний, касаний носами, виляний хвостами, не могу удержаться от определения, что это диалог. Собаки буквально обмениваются информацией, причем, на удивление политесно. Вначале замирает одна, позволяя себя обследовать, потом роли меняются, — и так повторяется несколько раз. Это что-то качественно иное, чем в социуме пчел, когда одна танцует, другие смотрят. У пчел односторонняя передача информации, у высших животных – двусторонняя.
Когда начинается игра, тоже трудно удержаться от впечатления диалогичности. Впечатление диалога возникает при общении собаки с хозяином. Разумеется, все это свойственно также обезьянам. На данном свойстве, — способности к внешнему диалогу, — основана уверенность многих собачников, что их собаки умные, как люди, «только не говорят». Почему не говорят? Говорят. Сигналы ведь подают. Например, провоцируют на игру. Есть диалог. Лучше всех об этом написал Томас Манн в рассказе «Хозяин и собака».
Внутренняя, содержательная диалогичность речи у высших животных отсутствует. Я пишу здесь не о «внутреннем голосе», а о дифференциальных признаках всех знаков человеческого языка, начиная с фонем и кончая синтаксическими конструктами; о том, что, говоря, мы выражаем смыслы, которые основаны на бинарном коде и являются тождествами оппозиционных значений. Как доказал Кант, все понятия антиномичны в себе, а мы можем их продуцировать, тогда как животные не могут.
Резюме по пчёлам, высшим животным и человеком. Коммуникативные системы различаются по следующим позициям. Закрытая; открытая, но ограниченная; бесконечная. Диалогизм: отсутствие (пчелы) имеется внешний диалогизм (высшие животные), имеется внешний и внутренний диалогизм. Только люди строят свою речь на оппозициях.
И ещё одно важное отличие имеется у человека. Определением природы человека является такое качество, как универсальность. По природе человек – универсальное животное, чья специфика заключается в отсутствии специфики, в способности действовать по меркам любых видов в пределах своих физических возможностей. Это наше качество проявляется и в языке. Животные, как бы они ни были умны, не способны к языковой полифонии и к полиглотизму. Русская гончая и афганская борзая гавкают одинаково и оба не отличаются от английского спаниэля. Лай собаки, жившей сто тысяч лет назад и современной собаки – это один и тот же лай. Словарный запас человеческого языка меняется полностью за тысячу лет. У всех собак один «язык», отдельные популяции животных одного вида не создают «свои» языки. Привезите собаку, выросшую в Австралии, в Петербург, ей не придётся изучать здесь «русский» собачий язык. Это, во-первых. Во-вторых, к усвоению «языков» других животных они не способны.
Здесь может прозвучать возражение. Птицы, попугаи и врановые, способны копировать слова. Я уже объяснял, почему. У нас две полости резонанса в носоглоточной системе, поэтому, в отличие от животных, возможна членораздельная речь. У птиц одна, но две пары голосовых связок, поэтому возможны модуляции, похожие на членораздельную речь. Но это не овладение языком, это «мертвые» копии, даже если устанавливается связь между звуковым модулем и ситуацией. Рефлекторный характер этой связи виден при первом же изменении ситуации, когда птица применяет слово неправильно. Вспомним стишок про попугая-предсказателя, который на все вопросы отвечал «никогда». Получалось, что никогда не будет ни счастья, ни любви, ни богатства. И тогда «Я спросил какие в Чили есть к примеру города? Он ответил никогда и его разоблачили». Человек может усваивать любые языки в пределах своего звукового диапазона, применяя усвоенные звуковые модули правильно в любой ситуации. Человек с развитыми имитационными способностями способен также усваивать звуковые модули животных, и правильно их применять.
Высшие животные оказались не способны к такому виду дрессуры, как имитация человеческой речи.
Различие между языком человека и коммуникациями шимпанзе существует даже на анатомическом уровне. Здесь я повторю, что говорил выше, но теперь применительно именно к шимпанзе. «Крики приматов контролируются не их корой головного мозга, а филогенетически более старыми структурами ствола мозга и лимбической системы, которые связаны с формированием эмоций. Органом порождения человеческой речи является кора головного мозга» (Пинкер, «Язык как инстинкт», с.317). Как сказал Бенвенист, это заблуждение, думать, будто человеческий язык появился из общения двух или более людей. Тем более глупо думать, будто он появился из коммуникаций животных.
Другое направление в теории глоттогенеза, — попытки вывести язык из кинетической речи. В монографиях, посвященных теме происхождения языка, традиционно уделяется огромное внимание языкам жестов немых. В жестовых языках долго пытались найти некие предпосылочные элементы, долго надеялись выйти через них на какие-то сугубые зоны мозга, пытались представить язык жестов в качестве протоязыка. Увы. В случаях патологии речи язык жестов имеет замещающее значение. В то же время и совершенно нормальные люди постоянно его используют в общении, как и язык глаз. При этом, даже для того, чтобы, не говоря ни слова, указать другому человеку направление движения рукой, мы должны прежде промыслить это действие, совершить ту же работу мозга, что и перед произнесением слова «вперед».
В исследовании проблемы происхождения языка это боковой ход – выводить звуковую речь от кинетической. Если сравнить со спуском в шахту, то это вход в боковую штольню, именно так все и выглядит в традиционных работах по психолингвистике или глоттогенезу. Возьмите любую монографию: глава, посвященная кинетической речи присутствует всегда. Что делать? Придется, зевая от скуки, «ползти» вбок, в пустопородную штольню, зная заранее, что в конце автор будет вынужден таки признать, что все дело не в руках, а в мозгах. Даже если он сам является горячим приверженцем т.н. «кинетической теории происхождения языка». Специфика кинетической речи, которая позволила бы говорить о ней, как о протоязыке, не выявлена. Наоборот, выявлено принципиальное тождество жестово-мимических знаков со звуко-речевыми, как в плане коммуникации, так и в проекции на зоны мозга.
Скажу более: не только как о протоязыке, но и как об отдельном лингвистическом феномене, говорить о кинетической речи можно только в рамках сурдопедагогики. В рамках психологии, лингвистики, психолингвистики, теории глоттогенеза этого отдельного феномена нет. Выделение языка жестов в какой-то «другой» язык антинаучно. Это такой же язык, как и все. Различие между русским языком и кинетическим языком глухонемых не более, чем между русским и китайским звуковыми языками. При производстве кинетической речи задействованы те же точно зоны мозга, что и при звуковом говорении, попытки обнаружить какие-то структурные различия, которые предпринимались с целью доказать эволюционное первенство кинетической речи окончились фиаско. «Известно, что правое полушарие ответственно за координацию движений и вообще за все, что получило название «языка тела», — пишет В.Рутенбург, — Поэтому было логично предположить, что язык глухонемых находится под контролем правого полушария. Выяснилось, однако, что он страдает при повреждении не правого, а левого полушария».
Почему для сторонников «кинетической теории происхождения языка» было важно, чтобы кинетическая речь была «правополушарной»? Эволюция замешана здесь непосредственно. Человеческий мозг не вырос «мало-помалу» из обезьяньего, а синтезировался из двух автономных мозгов наших морских предков, представлявших собой неотеническую форму дельфинид, цельность сознания поддерживается сложившейся системой доминирования, в мозге работает внутренний гипноз. Когда наши два «Я», вследствие случившейся миллионы лет назад инверсии, впервые отразились друг в друге, как в зеркалах, «увидели» друг друга, между ними началось «выяснение отношений», борьба за доминирование. В настоящее время большинство людей являются «левополушарными». Но «…у маленьких детей, как и у народов иных цивилизаций, не знающих нашей системы школьного обучения, доминирует правое полушарие с его ориентацией на реальный мир, не укладывающийся в прокрустово ложе логических законов» (Рутенбург).
Таким образом, выведение кинетической речи из более ранней в онтогенезе и более древней в филогенезе системы доминирования, когда правое полушарие преобладало, давало сторонникам «кинетической теории» козырный туз в руки. Если бы в разрезе мозговой асимметрии подобная тенденция была бы отслежена, все вопросы отпали бы сами собой. Теория глоттогенеза уперлась бы в феномен кинетической речи, уповая на нее, как на единственный реальный источник. Но не тут-то было. В наши дни позиция сторонников «кинетической теории глоттогенеза» выглядит, как вчерашний день на далекой периферии.
Ещё одно направление – чисто натуралистическое, механистическое – это попытки объяснить язык через особые гены или клетки. В 90-е годы поднялась шумиха, будто обнаружен «ген языка». В Англии нашли семью, все члены которой испытывали затруднения в речи. При этом сознание у них было нормальным, они жили и работали, как все. Их обследовали и выяснили, что у всех отсутствует один ген. Его объявили «геном языка» и, казалось, всё объяснили. Но, возникает вопрос, как ген языка может быть не связан с сознанием? Они нормально мыслили на своём уровне, это была рабочая семья, только говорили плохо. Потом этот «ген языка» нашли у других животных, даже у низших, у крокодилов, и шумиха утихла, а ведь вначале возникла буквально слепая вера в то, что проблема языка решена. Мы с Сергеем Петровичем Капицей спорили об этом у него на даче, как раз, когда шла эта волна, так он был очень увлечён, будто проблема решена, найден «ген языка», который всё объясняет. Но ведь это не отменяет необходимость эволюционного объяснения, откуда он взялся. Разумеется, за функции организма отвечают гены. Из-за дефектов отдельных генов человек может видеть плохо, или двигаться плохо, или говорить плохо, но это ничего не объясняет в происхождении языка, как системы. И потом, как может быть, что ген языка независим от сознания? Ведь эта рабочая семья была вполне дееспособной.
Бум номер два был связан с открытием командой профессора Ризолатти из Пармского университета т.н. «зеркальных нейронов». Случилось это так. Обезьяне просверлили голову, напихали в неё электродов, крепко привязали к стулу и… ушли на обед. Животное мучается, ни двигаться, ни есть, ни пить не может, а у учёных обед по расписанию. Пожрав в столовой, какой-то учёный зашёл в лабораторию с мороженым в руках. Эта животное в человеческом обличии на глазах у измученной обезьяны начал смачно жрать, облизываясь. Тут-то и случилось «великое открытие». Электроды начали звенеть. В голове обезьяны что-то происходило. Самый простой вывод: есть захотело бедное животное и в том, что мозг возбудился, нет ничего странного, ещё Павлов доказал связь между выделением желудочного сока и рефлекторно-мозговой деятельностью. Но мерзавцам от науки нужна сенсация! Они сделали вывод, что обезьяна «прочитала мысли» (видимо, мысль учёного «какое вкусное мороженое»), следовательно, обезьяна разумна, следовательно у неё есть особые «клетки разума» которые назвали «зеркальные нейроны». И пошла писать губерния, все научные журналы откликнулись, даже «Нью-Йорк таймс» опубликовала здоровенную статью, как мировую сенсацию в 2006г. Вот эта статья с моими пометками, когда я её переводил в 2006г. Видите, какая огромная? Целую газетную полосу посвятили «сенсации». Ещё до этого в книге 2005 года «Из пены морской» я написал, что мозг представляет собой зеркальную структуру, а сознание есть внутреннее отражение, благодаря чему возникает саморефлексия, которая и есть основа сознания. Поэтому неудивительно, если все клетки коры являются зеркальными нейронами и даже глия является зеркалом.
Невозможно найти клетки разума, сверля головы животных, потому что у них разума нет. Лучше бы члены научного коллектива сверлили головы друг другу в поисках клеток разума, это было бы убедительней. И психика и коммуникации животных объяснимы пошаговой эволюцией, здесь нет больших проблем. Проблема в том, чтобы объяснить человеческий разум и язык, это не объяснишь «зеркальными нейронами», которые общие, как у животных, так и у человека.
Прошу прощения за резкие выражения в адрес Ризолатти и его сотрудников, я не могу смириться с тем, что в гуманной Европе до сих пор сверлят головы животным при том, что давно существуют ПЭТ и МРТ.
На настоящий момент сенсации поутихли. Проблема происхождения языка оказалась в таком тупике, что в настоящее время солидные лингвистические издания даже не рассматривают статьи, посвященные проблеме происхождения языка. Действует конвенциональный запрет, подобный табу на публикации о вечном двигателе.
Попробуем мы и начнём не с животных. Я уже говорил на предыдущих лекциях, что наука, в отличие от религии, начинает с конца. Мы начнём с людей. Первый звук, который издает ребенок, появляясь на свет из первичного океана матки, — это сонант, состоящий из двух опорных консонант «п» и «ф», которые смешаны с четырьмя гласными «у», «а», «ы», «э». Если воспроизвести его вариации, то это будет «пфу», «пфа», «пфэ», «пфы», «пыф», «пуф», «паф», «пэф».
Большинство людей убеждены, что первое, что говорит ребенок, — это «мама». На самом деле от первого, предопределенного анатомией, дифтонга «пфу» до слова «мама» ребенку очень далеко. У него для этого слова еще даже анатомия не готова. У новорожденного до трех месяцев высокая гортань, язык выдвинут вперед и вверх, закрывая отверстие между полостью носа и полостью рта. Это означает, что назальный резонанс исключен, а в слове «мама» два назальных звука.
Выныривая на свет Божий из первичного океана матки, мы должны глотнуть воздуха, но перед этим должны энергично разлепить губы, издавая при этом звук «пф…». Это и есть первичная фонема, представляющая собой, безусловно, сонант, а не некий рафинированный звук. Наша эксклюзивная анатомическая особенность определила начало языка. Первым органом говорения является не язык, а губы. Язык вообще очень поздно вступает в этот процесс.
Рождаясь, маленький человек испытывает страшный стресс, его удерживает жуткий страх, который еще неосознаваем, но он есть: разомкнуть губы означает открыть себя миру, перед которым маленькое существо беззащитно. Первичное неосознанное всегда закрепляется в архетип. Именно этот акт, – размыкание губ новорожденным, — означает полный отказ от всего прежнего бытия, где ни в коем случае нельзя было размыкать губы, чтобы не погибнуть, потому что матка – это океан. До момента рождения ребенок находился в океане, крепко сцепив губы, и он не знает, что теперь океана нет. Он не готов к смерти, она для него – полная неожиданность. Думаю, что в этот момент закладываются очень важные психические константы. «Смертью смерть поправ» начинается отсюда.
Первое размыкание губ является не менее важным событием, чем само деторождение. Даже открывание глаз, которое осуществляется позже, не имеет такого значения. Размыкание губ означает ни много ни мало «путь зерна», — погибнуть, чтобы родиться. Инстинкт с одной стороны подсказывает маленькому человечку, что разомкнуть губы означает гибель, с другой, — что иного пути нет.
Когда человек умирает, ему обязательно смыкают губы и омывают водой, что символизирует возвращение в первичный океан.
Разумеется, смыслы, порожденные архисонантом, каковым является еще чисто физиологический звук «пф», по определению не могут быть однозначными.
Отвращение – и Приятие; Отчаяние – и Отчаянность решимости; Боль (первое размыкание нежных губ всегда связано с болью, иногда даже с кровавой) – и Благодать (нежданное счастье, что вместо смерти в него ворвался кислород жизни); Ужас наказания смертью – и Восторг обретения жизни, — вот первичные смыслы в дихотомичности значений. Разумеется, эти смыслы, в тождестве их противоречивости, никак не могли не закрепиться в кодах мозга уже в момент первого размыкания губ.
Первичный архисонант породил сразу две языковые универсалии. Во-первых, «па» в качестве определения отцовства, дающее при двоении, столь любимом людьми, слово «па-па». Именно это слово, как показал компьютерный анализ, произведенный французскими исследователями, является самым древним идиофоном. «Обширный анализ тысячи современных языков позволил специалистам из парижской ассоциации исследователей лингвистики и доисторической антропологии выдвинуть гипотезу об одном из самых первых слов, может быть, — самом первом.Это слово «папа» (papa). Пьер Банкэль и Ален Маттеи де Этан обнаружили, что «папа» (не «father», не «отец», а именно «papa») присутствует в 700 из тысячи рассмотренных современных языков. Причем, что важно, в подавляющем большинстве случаев, оно имеет именно такое значение: отец…» (http://www.izvestia.ru/news/292469).
Архисонант «пф», являясь психологически амбивалентным, звуковым выражением бинарного кода мозга, породил еще одно интернациональное слово: «Фу» (варианты: «пфу» , более поздний, — «тьфу»). Это интернациональный дифтонг, обозначающий отвращение и отторжение. Не будем при этом забывать, что этот бинарный код сформировался уже при рождении, еще до всякого общения. Это интериоризация неосознанного отношения новорожденного человека к миру. С одной стороны: великость, огромность, зависимость, желание слиться; с другой, — отвращение и страх. Не просто страх, а священный Ужас и Восторг пограничной ситуации на грани бытия и небытия. Размыкая в первый раз губы, ребенок преодолевает Великий запрет, благодаря которому его губы были плотно сжаты, рвет путы Бытия. В этот момент он становится самоубийцей, который после акта суицида оказывается неожиданно в каком-то другом, огромном и давящем мире. На каждый квадратный сантиметр его тела начинают давить килограммы атмосферы. С другой стороны, он обретает жизнь. Вот что такое «пф».
Что касается архифонемы «фу», это запретительное слово, а функцию ограничения всегда играли отцы. Отсюда прочная связь архифонемы «ПФ» с Отцом и с категорическим Запретом, с Табу.
После того, как первый архисонант распался на отдельные фонемы, «П» стал очень распространенным консонантом, присутствующим почти во всех языках, где больше, где меньше, где с налетом придыхательности, где в более чистом виде. На него легла амбивалентная ментальная нагрузка, связанная с определением отцовского начала. Амбивалентная, потому что налицо как психологический плюс, так и психологический минус. Это очень глубокая диалектика. Мы видим, как распадение первичного сонанта на дискретные элементы порождает новые пары противоречивых тождеств. Я бы выводил Эдипов комплекс отсюда, а не от фантастического предположения Фрейда, будто где-то когда-то дети напали и съели отца.
Чрезвычайно интересной оказалась судьба фонемы «Ф». О многом говорит уже тот факт, что есть языки, в которых слов на «Ф» множество (китайский, древнегреческий, кельтские языки), где их мало (латынь, немецкий) и где их почти нет, кроме заимствований.
В языке эллинов не только много слов на «ф», которые они, благодаря своей высокой, а, следовательно, «заразной» культуре внедрили в языки соседних народов, много теонимов на «Ф». Из 65 энциклопедических теонимов, начинающихся на «ф», половина – из греческой мифологии. Причем, не потому, что она наиболее разработана. Древнеримская мифология изучена не хуже, а буква «Ф» в именослове встречается реже более, чем в два раза, да и то это имена, связанные с греческими заимствованиями (фама, фатум и др.). Почти неизвестны имена на «Ф» в древнерусской и древнеиндийской мифологиях (к вопросу о родстве предков русского и индийского народов).
В «Этимологическом словаре русского языка» П.Черных говорится: «Звук «ф» в русском языке (как и в других славянских) – позднее явление и употребляется только в словах заимствованных и звукоподражательных». Это вызывает вопросы. У славянских языков и древнегреческого языка общие, не такие уж далекие корни. Для носителей славянских языков не существовало акустических проблем в произношении фонемы «Ф». В древнерусском алфавите даже не один, а два знака «ф». Почему же фонема оказалась дискриминирована?
Единственным объяснением является именно дискриминация, связанная с некой ментальностью. Не только носители старославянского и древнерусского языков избегали употреблять эту фонему. Еще в 19в. русские люди всячески избегали ее. Например, крепостных крестьян помещика Корфа называли не «корфовыми», а «корховыми» людьми. Вспомним, как написал на доске свое имя толстовский Филиппок: «Хвилипок». Уже в наши дни где-нибудь в провинции можно услышать: «надень хвартук». Может быть, эта бабушка не знает фонему «ф»? В таком случае, почему она своего соседа-пьяницу с редким постоянством называет «фулюган»? Не потому ли, что в негативном контексте «ф» может быть употребима? Эта же старушка легко выскажется иронически: «фу ты, ну ты, лапти гнуты!».
С другой стороны, смелая молодежь, наоборот, внедряла «запретную» фонему в свой лексикон, применяя ее с нарочитостью. 14 апреля 1831г. А.Пушкин написал П.Плетневу из Москвы в Петербург:
«…Ради Бога, найми мне фатерку… Фатерка чем дешевле, тем лучше …».
Не надо думать, будто Пушкин не знал, как пишется слово. 26 марта он писал тому же адресату:
«А дома, вероятно, ныне там недороги: гусаров нет, двора нет – квартер пустых много».
Пушкин не мог не понимать, что фонема «Ф» русскими людьми не любима. Он много экспериментировал с языком. В книге «Последнее дело Пушкина» я описал, как не без его активного участия ругательство «прелесть» перевернулось в обозначение самого прекрасного, что есть в подлунном мире.
С другой стороны мы имеем примеры обратной инверсии слов, когда высокие понятия опускаются. Ярким примером является смысловая инверсия слова «вертеп», которое, оттолкнувшись от первоначального своего значения в русском языке «ясли Христовы», превратилось в «развратный притон».
Для слов нет более лучшей судьбы, чем иметь нейтральный смысл (как и для людей, впрочем). Тот, кто не возбуждает сильные чувства, неважно, — положительные или отрицательные, — тот спокойней живет, хотя, зачастую, мимо того, ради чего стоит жить на свете. Люди таковы, что прекрасное переворачивают в чудовищное, и наоборот.
Отвращение почти во всех языках выражается при помощи фонемы «ф» или ее аллофонов, именно: «фу», «пфу», «тьфу» и т.д. Иногда достаточно «фыркнуть» (просто сказать «Ф»; русское выражение негации). Прослеживается фонологическая связь слова «табу» с такой языковой универсалией, как «тьФу», понятной на всех языках.
Почему первичный архисонант распался таким образом, что на «П» легла большая часть позитивного содержания, а на «Ф» большая часть негативного? Дело в том, что «П» — это билабиальный звук, «Ф» — лабиально-дентальный. Для произнесения его необходимо выставить верхнюю челюсть на нижнюю губу. Эта демонстрация у всех животных является знаком отвращения и угрозы. Например, собака, угрожая, приподнимает кожные складки, чтобы показать верхнюю челюсть. Большие собаки делают это молча, и это достаточно серьезная угроза. По сути дела, они осуществляют артикуляцию, которую осуществляет человек, произнося «Ф». Не случайно интернациональным запретительным словом для собак стало «фу».
Создатели девиантных языков, которые неосознанно всегда отталкиваются от ментальных запретов в лексике, инвертируя их в наоборотные значения, любят использовать слова на «ф». Например, в русском криминальном языке хороший человек называется «фраер», а хороший во всех отношениях — «фэфэ». Сам «правильный» язык называется «феня».
Магнетизм негативных смыслов с особенной силой властвует не только над преступниками, но и над молодежью. Нонконформизм всегда проявляет себя через ненормативность лексики. В молодежном слэнге всегда множество слов на «ф» с негативным, или, наоборот, с высоким смыслом, но, как правило, не нейтральным: от «фефелы» Саши Черного до современных «на фиг», «фигня», «фиговый», «фиолетово», «фордыбачить», «форца», «форшлагить» (ругаться матом), «фуфел», «фуфло», «факушки» (в отрицательных конструкциях), «фаговаться» (совокупляться) и др.
В книге «Происхождение языка» я объяснил, почему в одних языках наблюдается засилье «Ф», в других дискриминация. Это этнопсихология, связанная с палеоисторией, не будем в это углубляться здесь.
Первоначальный, наполненный противоречивыми значениями, сонант «пф» в своей консонантной основе разделился на две фонемы: «п» и «ф», которые, в свою очередь, тоже дихотомичны «в себе». «П» включило в себя не только позитив, связанный со словом «папа», но и «кроносический» негатив. «Ф» «мечется» между двумя крайностями: негативом и позитивом, бранью и сакральностью.
Между прочим, современные лингвисты, начиная с Соссюра, считают, что у фонем нет значений, будто значение начинается только с морфем. Они есть, просто они столько раз перевернулись, что первичные архетипические значения уже прослеживаются с трудом.
В этой книге я вышел на 4 архисонанта, предпочтение которых древними людьми дало ветвление 4 основных языковых семьи.
Не стану говорить о значимости своей работы, но считаю, что она имеет право на существование ввиду эксклюзивности. Дело в том, что о первых этапах развития речи нет никаких представлений. Некоторые специалисты думают будто пишут об этом, на самом деле речь, как правило, идет о пустоте. Приведу пример.
В первый год жизни «звуковая сторона детской речи лишена четырех важнейших особенностей, присущих речевым звукам: а) коррелированности; б) локализованности (в смысле артикуляции) в) константности г) релевантности» (профессор Леонтьев, сын академика Леонтьева).
Удивляет методика, когда берут некий предмет и начинают говорение на языке специальных терминов: чего там нет. Это абсолютно диссертабельная методика, ибо всегда где-то в чем-то чего-то нет. Но ведь наука заключается в том, чтобы установить, что есть. Мы видим, что уже в первом звуке младенца уже есть смысловая оппозиция.
Предлагаю ввести в теорию языкознания и психолингвистики смысл, как главный объяснительный принцип, но, разумеется, не в привычном смысле. Прошу прощения за тавтологию, но у слова “смысл” тоже есть смысл, и у слова значение тоже есть свое значение. Если исходить из данного признака, то это вообще некие суперпонятия.
Что такое смысл? Его принято отождествлять со значением, но это не так. Смысл — отнюдь не значение, которое по определению не может не быть привязанным к слову и уже поэтому не может не быть одномерным. Значение всегда одно. Бывают слова, имеющие несколько значений, но они – значения — могут быть атомарно перечислены, в отличие от смысла. Смысл содержит в себе значение и еще что-то непостижимое. Смысл теории и значение теории – это разные вещи, точно так же, как смысл жизни и значение жизни. Настоящих людей больше волнует смысл их жизни; других людей – их значение (значение их жизни).
…Один из героев Н.Лескова, священник, попавший в пограничную ситуацию, говорит: «Жизнь кончилась, началось бытие». Мы никогда не поймем смысл данной фразы, если будем исходить только из значений (о значимостях вообще молчу). Если бы герой сказал: «жизнь кончилась, началось умирание», — это было бы понятно из значений. Если бы лесковский священник сказал: «Эта жизнь кончилась, началась другая жизнь», — и это было бы понятно без объяснений. Но как объяснить замечательную тавтологию: «жизнь кончилась, началось бытие»? Никак. Настоящие смыслы непостижимы. Их не понимают, их чувствуют душой. Между тем именно они — эти трансценденции — лежат в основе мышления-языка.
Гений – это тот, кто доходит до них, не случайно гений – «друг парадоксов». Всё, что нас окружает, все тела, все вещи имеют свое значение. Но «своего» смысла они не имеют. Смысл рождается только при взаимодействии. Сами по себе тела бессмысленны.
В историю философии прочно вошел один булыжник, связанный с инцидентом. Позволю себе небольшое отступление.
Из всех философских направлений логически доказуемым является только одно: субъективный идеализм. Объективный идеализм доказуем косвенно, а именно тем, что любая философская система, даже исходящая из атеистических начал, будучи развита и доведена до логического завершения, приводит к признанию Высшего бытия, которое можно именовать Богом, Абсолютным духом, Законом (например, Дао) и как угодно иначе. Одну из своих статей, опубликованную 20 лет назад, я посвятил тому, как внутренняя логика такого чисто атеистического учения, как марксизм, сама приводит к идее Бога.
Материализм логически совершенно не доказуем, но в его пользу говорит вещный мир. Все люди являются стихийными материалистами, потому что мы все обретаемся среди тел, игнорировать которые никак не можем. Это, если хотите, наша тюрьма, а разве может заключенный игнорировать стены узилища? Сидя в нем, ходя из угла в угол, можно рассуждать, будто на самом деле ты свободен, что никаких стен нет, что это только видимость, но дальше стены ты все равно не уйдешь, это факт. Но теоретически материализм, как концепт, абсолютно не доказуем, это тоже факт. Человек, который сумеет логически доказать, что стул, на котором он сидит, существует реально, станет величайшим ученым всех времен и народов и получит все возможные премии при одном условии: обойтись только головой, без руко-и-ногоприкладства. Может быть, поэтому материалисты часто сбиваются на такой способ доказывания своей правоты, — потому что материализм логически недоказуем?
В эпоху расцвета материализма в 18в. философ Беркли читал в Англии публичные лекции, в которых неопровержимо доказывал логически, что весь вещный мир – это только кажимость, за которой ничего не стоит, кроме наших собственных ощущений. Очень прочно доказывал, его аргументы не опровергнуты до сих пор, Известный материалист, доктор Джонсон, выйдя с лекции, где пытался спорить с Беркли и проспорил, в сердцах подошел к лежащему на обочине булыжнику и пнул его со словами: «Вот мой аргумент!»
Данное твердое тело и до соприкосновения с философской ногой имело значение: если игнорировать камни, лежащие на земле, по которой мы ходим, можно ноги переломать. Однако только после столкновения с доктором Джонсоном булыжник приобрел смысл, причем, непреходящий: у философов-материалистов до сих пор нет более веских аргументов, чем «аргумент доктора Джонсона», который под таким названием вошёл в историю. Смысл рождается из столкновения, он дифференциален, в отличие от значения.
Весь мир театр, а люди в нем актеры, сказал Шекспир. Театр являет себя не только в словах, каждое из которых полно значений. Возьмем театральную паузу, например, знаменитую немую сцену из пьесы Н.Гоголя «Ревизор». Слова, к которым могли быть привязаны значения, отсутствуют начисто, а между тем сколько в ней смысла! Гоголя кроят и переделывают по-всякому, неизменно только одно: еще ни один режиссер-новатор не посмел покуситься на немую сцену. Если из текста последовательно убрать все диалоги, пострадавшие за два века от режиссерского произвола, — одна только немая сцена и останется! С другой стороны, она не имеет смысла вне контекста, она дифференциальна «в себе». Молчание имеет смысл, потому что есть слово, хотя актуально оно в молчании, безусловно, отсутствует. Таков язык театра, который есть жизнь. Соссюр, говоривший, что язык и речь явления разные, правильно говорил в данном случае, хотя в целом я к нему критически настроен. Язык больше, чем речь, на размер молчания, которое может быть огромным. Речь и молчание – две противоположности в языке. В природе нет молчания, там может быть только беззвучность. Молчание – чисто человеческий феномен, подразумевающий «свое иное», — речь.
«Жить хорошо!» — говорит Вицин в фильме «Кавказская пленница». «А хорошо жить ещё лучше!» — говорит Никулин. Исходя из значений, он ничего нового не сказал, слова переставил. Но сколько смысла! Переверните выражение «кровь с молоком». Что получится? «Молоко с кровью», — и другой смысл при тех же значениях. Почему мы смеёмся, слушая Жванецкого «раки вчера были большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три». Жванецкий жаловался, что американцы не смеются, хотя значения те же самые. Что придаёт в наших глазах юмористический смысл этим значениям? Нечто, что в самих значениях отсутствует.
Попробую объяснить смысл еще и на следующем простом примере. Люди создали искусственные языки. Самый распространенный пример – язык компьютера. Мы создали его по образу и подобию своему, как Боги. Многие давно воспринимают компьютер, как живое существо. Многие тратят большие средства на приобретения компьютеров новейших поколений не ради необходимости, а ради общения. Это говорит о том, что многие воспринимают машину, как партнера. Многим для работы и для выхода в интернет достаточны компьютеры десятилетней давности, но им важно иметь еще более «отзывчивого» партнера. А ведь все компьютеры, как бы они ни были сообразительны, от самых первых до последних, — все они работают на бинарном коде, открытом еще Лейбницем.
В их языке нет ничего принципиально нового, по сравнению с азбукой Морзе: точка – тире. В компьютерном языке, — ноль и единица. Знак и антизнак. Различие в длительности. В азбуке Морзе тоже ведь нет никаких графических «точек-тире», когда телеграфист «стучит». Это простая условность – их графические изображения. Сами эти знаки не имеют никакого смысла, хотя значительно различаются между собой и в ходе живой передачи, и на листе бумаги. Значение есть, а смысла нет. Точка сама по себе смысла не имеет, хотя имеет значение. Тире само по себе может иметь значение, но не смысл. Смысл – это то, что возникает между ними. И не только между ними. Смысл рождается в сочетаниях двух точек и двух тире, как бы между ними. Однако, для того, чтобы две точки породили смысл, необходимо, чтобы существовало тире, хотя в данном случае оно нигде актуально не присутствует, в данном случае тире трансцендентно. Это ситуативно потусторонний дифференциал, трансцендентное существование. В случае, когда смысл рождается между двумя одинаковыми знаками, а антизнак реально не присутствует, но необходимо подразумевается – это трансцендентное бытие. Его нет, но без него ничто не имеет смысла. В своем становлении, в своей реализации бинарный код является триадой. До этого он – только потенция.
Бинарный код в своем функционировании неизменно порождает третью сущность, имеющую трансцендентный характер и представляющую собой смысл в его чистом бытии. Т.е. по сути дела бинарный код триадичен. На самом деле минимально-элементным кодом сознания и языка является триада.
Бинарность – это не код, а возможность кода. Сообщение принципиально невозможно без третьей, трансцендентной составляющей. Его содержание обеспечивается всей триадой, но смысл в чистом виде содержится в том, «что возникает между двух».
Интересно, что к открытию триады, как кода мультиклеточной активности мозга пришли ученые школы Н.П.Бехтеревой в ходе предъявления словесных задач, психологических тестов. «Здесь важно подчеркнуть, — пишет Н.П.Бехтерева, — что в результате проведенных работ в отрезках записи мультиклеточной активности… были выделены групповые последовательности разрядов с фиксированными интервалами, причем, функционально значимым элементом общего паттерна оказывались последовательности из трех и более интервалов. При этом, хотя и наблюдались групповые последовательности разрядов с определенными интервалами в количестве более 3, они были менее стабильны, уникальны и менее воспроизводимы. Это позволило считать последовательность из трех интервалов минимальной и достаточной для физиологической роли ее как элемента паттерна».
То, что пишет Н.П.Бехтерева далее, еще интереснее. Она пишет о «фоновой активности», связанной с образованием триад. «Что действительно обнаруживается в фоне в большом количестве, так это парные интервалы с определенной их длительностью, в том числе и одинаковой в обоих интервалах. Именно парные интервальные последовательности, по-видимому, служат физиологической основой образования триад… По-видимому, парные интервалы могут рассматриваться в качестве опорных жестких единств для формирования интервальных триад».
Это и есть ничто иное, как код мозга: бинарный код, неизбежно порождающий триаду. Ученые зафиксировали рождение смысла как третьего элемента, которого нет в имманентной фоновой активности мозга, в элементах бинарного кода, взятых сами по себе. Думаю, что это самое великое открытие со времен теории Эйнштейна, а прошло оно как-то не замеченно. Вот за это надо было давать Нобелевскую премию, которая, к сожалению, дается только живым. Наталья Петровна неоднократно говорила мне, что её мечта – открыть коды мозга, позволяющие понимать смыслы. Она подошла к этому своими триадами на базе диад.
Вспомним здесь же христианский догмат Троицы и его великий смысл. Рождение представления о Троице было одним из величайших событий истории человечества, проникновением в главную тайну бытия. Это настолько важно, что стало осевым временем истории, началом новой эры человечества.
Что такое смысл? Это «Дух», который «возникает между двух» (строка из стихотворения А.Вознесенского). Добавлю: обязательно подразумевая Третье. Жизнь без любви не может иметь смысла, хотя может иметь значение. Любовь является смыслом, потому что она возникает между двух, подразумевая третье: высшее трансцендентное бытие; поэтому не только религия, но и философия учит: Бог есть Любовь.
На мой взгляд, идти от машинного языка к человеческому отнюдь не порочно: ведь люди его создавали сообразно со своим. Машинный код – калька с кода естественного языка. Здесь мы как раз наблюдаем изоморфизм, кибернетика права. Если мы создали машины, с которыми можем общаться (играть в шахматы, например), это значит, что мы вложили в них частичку самих себя. Бог (по Гегелю – Абсолютный дух) тоже идет к себе через свое творение, — человека.
Еще более простой, материальный пример. До появления компьютеров, в которые можно вводить информацию клавишами и лазерной «мышкой», долгое время бытовали громоздкие машины, информацию в которые надо было вводить с помощью перфокарт, на которых стройными рядами были впечатаны единицы и нули. Тогда ученые долбили дырки на картонных карточках. Для того, чтобы задать вопрос, надо было выдолбить правильную конфигурацию из двух составляющих, а именно: «дырка» и «отсутствие дырки». Что такое дырка? Пустота, ничто. Что такое «отсутствие дырки»? Ничто, которое еще более ничто, чем первое ничто. Тем не менее, все это что-то значило, хотя сами по себе эти «дырки» и «отсутствия дырок» не имели никакого смысла. Когда все это вводили в «мозг» машины, сочетания этих всех «ничто» давало что? — Смысл.
Смысл – это Ничто, которое Все. Это то, с чего Гегель начинал «Науку логики» и то, чем закончили ученые-материалисты, «разлагая» физику «по полочкам» (вот опять фигура оксюморон: разложили до потери своего предмета, если понимать физику, как науку о веществе, т.е. в буквальном смысле предмет разложился, благодаря усилиям физиков). Смысл – это Ничто, которое лежит в основе Мироздания, Мышления и Языка, и ничто, кроме него, не имеет никакого смысла.
Наиболее осмысленными являются те речи, в которых значения исчезают. Разве не прав апостол Павел, сказавший: «мудрость Божия для мудрецов мира сего – глупость»? (Второе Послание Коринфянам)
Выводы. Первое. В отличие от значений, смысл, как истинная единица мышления-языка, всегда амбивалентен, он содержит «в себе» в снятом виде бинарный код мозга, которого нет у животных. Настоящий смысл непостижим в значениях, это ничто иное, как «шайн» по Гегелю, как вибрация струны, как отражение без отражаемого. Значение является только одной из сторон смысла. Смысл существует в диалектическом тождестве значения и анти-значения и не ограничивается этим тождеством, истинное бытие смысла заключается вне значений. Смысл не является нам, ибо это не феномен, это ноумен, это всегда ситуативно потусторонний дифференциал; это третье, которого нет, но без которого первые два не имеют истинного бытия в качестве значений.
Определение смысла как ситуативно трансцендентного дифференциала – не-кантовское. У Канта дуализм: феномен и ноумен, наличное и трансцендентное бытие. У меня триада, т.е. ближе к Гегелю.
Смысл утверждается в отрицании самого себя. Ф.М.Достоевский писал: «нельзя любить человека, не ненавидя его». Получается ли отсюда, что любить значит ненавидеть, а ненавидеть значит любить? Люди, живущие небессмысленно, знают на личном опыте, сколько смысла в словах великого писателя. Но попробуйте объяснить это детям, которые уже знают значения слов «любить» и «ненавидеть». У вас ничего не получится, да и не надо. Чтобы понять смысл, который в данном случае отрицает значения, надо пожить.
Второе. Сущностно, ноуменально, эзотерично, имплицитно смысл есть функциональное тождество мышления и языка. Явленно, феноменально, экзотерично, эксплицитно смысл выступает в качестве диалектического тождества звука и молчания. Молчание является таким же составляющим языка, как и звук. В контексте языка звук без молчания не имеет смысла.
В мире животных молчание ничего не значит. Там его нет вообще, там есть отсутствие звуков. Уже это говорит, что это принципиально разные явления, имеющие разные истоки: человеческий язык и коммуникации животных. Академик Леонтьев не прав: не значение является подлинной единицей сознания, а смысл. Значение – это про животных. У них все звуки что-то значат, причём, однозначно. Дадим определение языка в отличие от коммуникаций высших животных. Коммуникации животных – это системы значений, являющихся самоцелью и используемых исключительно для общения между особями. Значения являются психологической и семиотической единицей коммуникаций высших животных, они однозначны и поэтому конечны. Человеческий язык – это система смыслов, где значения играют роль инструментов для выражения смыслов, которые используются не только для общения между особями, но и для функционирования сознания вообще, включая мышление. Психологической и семиотической единицей человеческого языка является смысл, основанный на бинарном коде. Смысл так же бесконечен, как язык.
Последний штрих. Задумаемся, для кого характерно знаковое поведение среди людей? Кто интенсивно жестикулирует, артикулирует? Кто, выражая отношение, демонстративно выставляет палец, или делает распальцовку, крутит пальцем у виска, закатывает глаза, хлопает себя по бокам или по заднице? Для кого характерны взоры больше глаз и взмахи больше рук? Для людей, мягко говоря, маловысокоразвитых. Образованные люди избегают театрализованной аффектации, т.е. знакового поведения, похожего на поведение животных.
Кстати о театре. Первоначально театр, который вырос из первобытных мистерий, был карнавалом и меннипеей, вспомним Бахтина. А ведь карнавал – это маски, а маски – это знаки. Вспомним японский театр Но и Кабуки, индийский театр масок, греческую трагедию, где актёры надевали маски, итальянский театр дель-арте. Первым бунт против театра масок устроил Гольдони, а завершил Станиславский. Что означает его знаменитое «не верю»? Это требование к актёру снять маску. Что означает его главный принцип – играешь злого, ищи, где он добрый, играешь правого, ищи, где он неправ? Это тоже разоблачение, срывание масок. Но театр всегда будет действием масок, поэтому он никогда не умрёт, потому что он возвращает нас к архетипическим формам знакового поведения. И постмодернистский театр снова возвращает маски. Однако нам ведь важны не сами маски и не значения, которые в них вложены, нам важны смыслы, которые рождаются из столкновений масок.
Развитие языка – это отдельная проблема, но не столь сложная, как вопрос о происхождении языка. Когда люди обрели сознание и язык, то источники фонетического разнообразия они стали находить, копируя разных зверей и птиц. Первый язык, естественно, был похож на дельфиний, в нём было много щёлкающих звуков. Это фиксируется по языку бушменов и готтентотов, которые когда-то жили на южном берегу Средиземного моря и являются носителями – это доказано – самого древнего языка на Земле. Потом люди стали заимствовать у птиц, являющихся постоянными спутниками человека – у чаек, врановых, попугаев. Возникли первичные архисонанты, о которых я подробно написал в книге «Происхождение языка».
Благодарю за внимание!